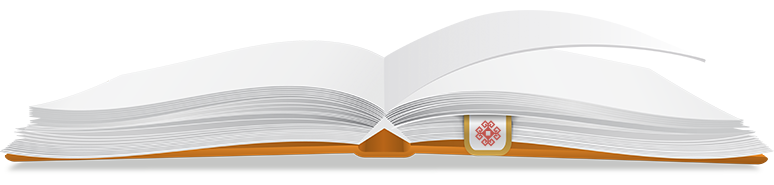ТАК, ГОВОРЯТ, Я РОДИЛАСЬ

Жена и двое ребятишек Метри спят на полу. Сам он примостился на нарах прямо у двери, укрывшись старым сохманом. Светает. Сквозь выходящее на улицу оконце пробился розовый лучик утренней зари и осветил его худощавое, с острой рыжей бороденкой лицо. Во дворе пропел петух. Хозяин, будто и глаз не смыкал, проворно поднялся и, как был в белой холщовой, рубахе и крашеных домотканых шароварах, так и поспешил во двор узнать, какая нынче погода.
День обещал быть погожим. Да пора бы уж и разведриться—четыре дня кряду дул порывистый ветер, перемежаясь проливным дождем. Голубое небо кажется бездонным, на нем кое-где мерцают звезды. Заря разгорается все ярче и ярче.
Метри обрадовался хорошему утру. Можно будет дожать оставшуюся полоску овса, только выехать надо пораньше—не дай бог после обеда опять разненастится. С этими мыслями он подошел к амбару, снял с гвоздя онучи и лапти, быстро обулся. Зачерпнув ковш воды, наскоро ополоснул лицо, вернулся в сени. Потом пригладил пятернёй уже кое-где поседевшие волосы, надел на голову свалянный из грязновато-серой шерсти колпак.
Праски, буди детей, в поле пора,—открыв дверь в избу,
сказал он жене.— Яшку разогрей, а я пока за лошадью схожу.
На обед огурцов соленых взять не забудь.
Ладно, ступай.
Сильно хлопнув дверью — пусть ребятишки скорее просыпаются,—Метри резво сбежал по ступенькам.
Когда солнце полностью выкатилось на небо, Метри, усадив в телегу жену, двоих детей—Ивана и Альдик, выехал со двора.
Дорога тянулась по яровому полю. После многодневного дождя она вся разбухла, и из-под колес с чавканьем и свистом разлеталась во все стороны жидкая грязь.
Овес-то, поди, мокрый весь,—оказала Праски.
Ничего, пока доедем—провянет,— подергивая вожжи, ус-
покоил жену Метри.
Двенадцатилетний Иван и семилетняя Альдик дружно, как бельчата, жевали стручковый горох, беззаботно поглядывая по сторонам блестящими коричневыми глазенками, и договаривались, что как только кончат жать овес, сразу побегут в лес за орехами.
Зато жена Метри сидела задумчивая и грустная, скрестив руки на большом животе, и думала, кого же на сей раз ниспошлет ей пюлех: сына или дочь.
—Но-о-о! Пошла, пошла!—понукал лошадь хозяин, то и дело посматривая на жену и думая о том же по-своему: «Родится сын—землицы бы прибавилось, сена-соломы чуть побольше бы стало. И телочку можно купить. Вырастет, глядишь, коровенка будет справная... Да, сына бы надо, сына... Уж скорей бы она разрешилась...»
Лошадь между тем уже свернула с дороги на знакомый загон шириною в сажень-другую. Да, урожай на нем доставляет мало радости — низенький, редкий овес местами не взошел и вовсе.
Все семейство принялось за работу. Отец с матерью встали по краям загона, дети—посередине. Маленькая Альдик старается не отстать от брата: он сноп свяжет — и у нее готов. А тот в свою очередь тянется за матерью. Узенькая полоска овса тает на глазах.
Ближе к обеду Праски почувствовала себя плохо. Подойдя к телеге, расстелила наземь сохман, прилегла. Метри, заметил это, поспешил к ней.
—Что, Праски, худо тебе?—с испугом и жалостью глядя на жену, спросил Метри.
Изменившаяся с лица, с расширенными от боли глазами, жена ничего не ответила мужу, только сквозь сжатые зубы вырывался стон.
Эх, с утра не надо было тебе из дому трогаться,—укоряя себя и не зная, что делать, говорил Метри.
Да с утра ничего не было... Думала, поработаю нынче день...
Она с трудом поднялась и, пригнувшись, пошла за скирд.
—Может, лошадь запрячь?—крикнул вслед жене Метри. Праски ничего не ответила.
Метри поспешил к лошади, что паслась н.а сжатом загоне, быстро привел ее и стал запрягать. Дети тоже побросали серпы и тревожно поглядывали в сторону скирда, где скрылась мать. Метри бросил на телегу пять—шесть снопов, распустил перевясла, чтобы было мягче.
Ну, готово, иди, Праски, садись!—позвал он, заворачивая лошадь к скирду. В эту минуту раздался звонкий плач ребенка. Бросив лошадь, Метри кинулся за скирд.
К-кого бог дал?—заикаясь от волнения, выдохнул он.
— Дочь,—послышался недовольный и виноватый голос жены. Лицо Метри померкло, будто на него свалилось страшное горе.
А на влажном жнивье дрыгал хиленькими ножонками маленький, точно колодка для лаптя, живой комочек. Мать, склонившись над ним, перевязывала пуповину своим поясом. Огрубевшие от работы руки дрожали, а из глаз прямо на синенькое тельце дочери скатывались крупные, как горошины, слезы.
—Не плачь,—успокаивал жену Метри, с горечью глядя на обеих.—Раз уж не суждено от бога, чего ж тут слезы лить. Эх, жизнь-горемыка...
Матъ, обернув новорожденную фартуком, с трудом поднялась с земли и тихо побрела к телеге. Метри укрыл жену сохманом, усадил на повозку. Лошадь, уставшая от ожидания, резво тронулась с места, лишь только хозяин взялся за вожжи, а выйдя на ровную дорогу, припустила рысцой.
Метри ссадил жену и дочь у двора и поспешил к дому тестя. Сообщив о прибавлении семейства, без лишних слов развернул лошадь и погнал в поле—до вечера надо было успеть дожать овес и свезти его в скирд.
Праски же, положив новорожденную на лавку в переднем углу, принялась за привычные домашние хлопоты: развела огонь и подвесила котел с водой—выкупать девочку, принесла из амбара старые, чисто выстиранные белые обноски—для пеленок, занесла корыто. Однако почувствовав, что вконец обессилела,. прилегла возле ребенка.
В дверь неслышно вошла пожилая женщина, одетая в вышитое белое платье и повязанная сурбаном, как чалмой,-—мать Праски. В руках она держала деревянную чашку, прикрытую капустным листом. Мягко ступая обутыми в онучи и лапти ногами, она прошла вперед, поставила чашку на стол. Осунувшееся, лицо Праски оживилось.
— Анне, вот хорошо, что пришла... Места я себе не нахожу, анне...
Старушка непонимающе посмотрела на дочь добродушными желтыми глазами.
Отчего же, дочка, места-то не находишь?
Девчонку ведь я родила, анне...
И-и, стоит из-за этого убиваться!
Как же не стоит? Ведь нас, баб-то, нахлебниками зовут.
Ну так что ж. Бусинка дырявая— и та зря на полу не валяется, говорят старики. А девка и подавно найдет свое место, судьбу свою. Не горюй, ляг, отдохни.
Праски, несколько успокоившись, прилегла, а бабушка начала хлопотать вокруг внучки, готовить ее к первому купанью.
— Ах ты какая: тощенькая, а голосистая! Вон как завизжала, не успела к воде поднести. На дедушку похожа. Нос-то не то что у брата с сестренкой, не прямой. И лицо пошире...—приговаривала бабушка, умело поворачивая и поливая со всех сторон теплой водой крошечное тельце.
Да, она не такая будет славная, как Иван и Альдик,—сокрушенно проговорила Праски.
Не хай прежде времени. Вырастет — свое возьмет,—возразила бабушка. — Гляди, ручонки-то как крепко держат, жилистая, жить будет. Ишь, ты, синичка, а глаза-то, глаза-то, точь-в-точь бусинки...
Стараясь успокоить дочь, старушка без умолку щебетала над внучкой, а в душе сама сокрушалась не меньше ее, жалея заранее только что появившуюся на свет бедную душу. «Бедняжка ты моя, на беду, на горе уродилась. Бабий век—сорок бед, говорят. Дай, господи, тебе здоровья да терпенья, чтоб все беды перенесть, все насмешки пережить...»—думала про себя старушка и опасливо поглядывала на дочь, будто та могла догадаться об ее мыслях.
— Ну, готово!—радостно, довольная делом своих рук, сказала бабушка .и положила рядом с матерью туго спеленатую чистой холстинкой дочурку.— А я пойду зыбку занесу.
Праски кормила дочь и благодарно глядела на мать, как та .ловко, несмотря на возраст, управлялась с зыбкой: протерла ее влажной тряпкой, застелила чистой соломой, покрыла сшитым из лоскутов покрывальцем. Потом просунула шест сквозь кольцо на потолке и подвесила зыбку.
— А теперь пора и на место,—подошла она к сонной внучке, бережно отняла от материнской груди и, уложив ее на подушку, приподняла на вытянутых руках и трижды качнула в сторону печки, приговаривая:—Домовой, стереги внучку, береги дочку, не пугай сестричку!
После этого заклинания положила девочку в зыбку. Однако на этом старанья бабушки оградить внучку от всех бед не кончились—она взяла с полки старый нож без ручки и трижды обнесла его вокруг зыбки.
— Железный забор горожу, злу дорогу прегражу! Иди прочь от ребенка, злыдень, из дому нашего иди прочь!
И, чтобы навсегда отрезать злу пути к внучке, подвесила нож к зыбке — пусть все недуги боятся железного духа.
Праски внимательно наблюдала за хлопотами матери, хотя и мало верила, что ее старания принесут дочке счастливую долю. А бабушка, видимо, вошла во вкус своих священнодействий и решила попробовать все, что было на ее памяти. Вот она вышла в сени и вернулась с клубком черной шерсти. Подошла к зыбке, распеленала внучку и перевязала ее запястья обеих рук и щиколотки ног черными нитками. Это тоже должно было избавить ребенка от злого духа, который мог сделать его хилым, болезненным, худосочным.
Старые люди так делали, Праски, вот и я, как сумела, сделала,—-облегченно вздохнув, села она рядом с дочерью.—В баню приходи, отец еще давеча вытопил, как только керю сказал, что ты разрешилась.
Приду, анне.
Мед ешь, дочка,—сказала старуха, кивнув на ковш, что стоял на столе. — Отец постарался, пускай, говорит, теплого меду поест. Он для здоровья больно хорош.
— Ладно, анне, потом с хлебом поем. Хлеб, картошка, огурцы... Вот и вся еда. Молока-то с такой еды у тебя не будет, дочка. Так, видать, уж проживешь-то на постной яшке.
Что поделаешь, анне...
Может, яиц тебе сварить?
Не надо, мама, тратить. Иванюку вон еще за керосин восемнадцать штук должны.
Барашка хоть зарежьте тогда, все навар будет.
— Ой, мама, без него нам с податями не расплатиться, продать придется.
— Беда с вами,—горько сказала старуха, с состраданием; глядя на дочь. И морщинистое лицо ее еще больше сморщилось жалости к родному существу. Тяжело вздохнув, она ушла.