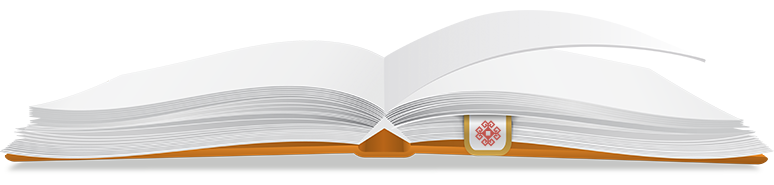МОИ НЕСЧАСТЬЯ

Я уже чуть-чуть выше стола. Мне даже не надо вставать на цьшочки, чтобы увидеть, лежит на нем что или нет. Я целыми днями бегаю по пятам за сестрой или за матерью, пытаюсь делать то же, что и они, но им почему-то не по душе моя помощь. Начну пол подметать, а сестра тут как тут: «Ну, погнала весь мусор в передний угол!»—и отберет у меня веник, спрячет подальше. Очень мне становится обидно.
А однажды я такое натворила, что и сейчас вспомнить боязно. Вижу — на приступке, скамейке возле печки, стоит ведро, рядом—сестра и так пристально смотрит в него, что я прямо сгораю от любопытства: что же там может быть? Только отошла сестра к окошку, я быстро вскарабкалась на скамейку, наклонила ведро к себе. Шакр-р!—загремели о жестяные бока яйца и одно за другим ляп! ляп! пошлепались на пол. Сестра обезумела, увидев, как по полу расползаются бело-желтые круги.
— Что ты наделала, ведьма этакая? Ведь мать теперь убьет тебя! На соль припасли эти яйца, что теперь делать будем? — Чуть не плача, она стала подбирать уцелевшие и треснутые яйца.
Я, едва живая от страха, со слезами бросилась во двор и спряталась в конюшне, зарылась в солому. Сижу в ней, как сурок, и думаю: что же теперь будет мне за разбитые яйца? Много ли, мало ли просидела, слышу—сестра зовет меня. Я еще глубже в солому зарылась. Чувствую, сестра зашла в конюшню. Затаилась и жду. Поглядев во все углы, она ушла. Я .высунула голову из соломы и стала дремать, потом, вероятно, уснула и проспала довольно долго, потому что во дворе уже блеяли овцы, слышен был разговор—говорили сестра с матерью. Я снова зарылась в солому, оставив однако щелочку для глаз. Вдруг дверь конюшни распахнулась, и кто-то впустил лошадь. Та вначале прошла к колоде, в которой для нее готовили месиво, но, не обнаружив еды, направилась к соломе. Вот она уже почти добралась до меня, и тут я взвизгнула от страшной боли—лошадь наступила мне на ногу.
В конюшню вбежал отец.
— Что такое? Лошадь, что ли, пнула тебя? И зачем ты здесь?—подхватил он меня на руки, а лицо у самого пепельно-
серое.
Я рассказала, как оказалась здесь и что лошадь отдавила мне ногу. Сама продолжаю всхлипывать уже не столько от боли, сколько от предстоящей расплаты за разбитые яйца.
— Ну, будет хныкать,— успокаивает меня отец, выводя за руку из конюшни,—айда в избу, а то потеряли тебя совсем.
Нога у меня распухла, и я не могу на. нее ступить, прыгаю, как воробей. Мать и сестра стоят во дворе. Я допрыгала до амбара и села.
— Праски, ты уж не бей ее, она и так перепугалась: лошадь ей на ногу наступила, в соломе она спряталась. Пощупай-ка ногу-то, кость не переломилась?
Мать осмотрела мою ногу, помяла ступню, согнула в суставе, потерла.
Вроде, кость нетронута, только на двух пальцах вон кровь свернулась,—сказала мать и повела меня в дом. Взяв под мышки, усадила за стол, принесла в моей маленькой глиняной чашке яшку. Я хлебнула и тут же отложила ложку. Яшка была несоленая.
Мам, ты же забыла посолить,—говорю матери.
Соли-то нет ни щепотки, доченька.
В лавке у Иванюка бы купила.
Да вот хотела купить и яиц десяток накопила, только ты ведь сама их разбила. Теперь жди, когда две курицы нанесут еще десяток яиц, а пока придется есть без соли.
И мать тяжело вздохнула. Я же с аппетитом принялась за несоленую яшку.
Мне очень нравилось ходить с матерью в сарай за дровами. Бывало, возьму одно полено, принесу в избу, мать похлопает меня по спине и скажет:
— Молодец, работящая дочка у меня растет.
А мне от этой похвалы еще больше хочется помогать ей. И вот как-то стою и гляжу: мать месит тесто. Муки не хватило, и она, взяв деревянную чашку, пошла к соседям попросить взаймы. Едва за нею захлопнулась дверь, я взобралась на скамейку, где стояла квашонка с тестом, и, запустив руки в тесто, начала месить. Тесто налипло мне на руки, и я, чтобы избавиться от него, стала трясти руками. На пол стали шлепаться целые лепешки, а остатки я вытерла о платье. Когда вернулась с мукой мать, я не только сама вся вымазалась, но и на полу, около печки, на нарах—всюду было тесто. А о платье и говорить нечего: чистого местечка не осталось.
Мать, увидев все это, заохала:
— Ах, тур-тур! Чего ты наделала? Платье-то, платье начто похоже?
А я слезла с табуретки и как ни в чем не бывало поглядываю на дело своих рук.
Ты зачем к тесту подошла?
Помочь тебе хотела...
Мать еле заметно улыбнулась, но лицо ее тут же потускнело,
— Сколько теста извела, помощница. Мука-то ведь последняя была. Как теперь дотянем, пока отец с братом вернутся?
На глазах матери появились слезы. Я молча вышла во двор и щепкой стала соскребать тесто со своего платья.
Казалось, не будет конца моим несчастьям, и все они происходили из-за моей наивности. Но, пожалуй, самая страшная из всех моих бед—это то, как я тонула. И если бы не кузнец, не было бы меня в живых.
Я играла на лужайке возле дома. Вдруг вижу, идет моя сестра с подружкой, по всей вероятности, на речку купаться. Я ударилась вслед за ними. Оступившись на пригорке, я со всего размаху упала на землю и поранила палец на ноге. Заревела так громко, что сестра сразу подбежала ко мне. Глотая слезы, спрашиваю ее, куда они собрались, и говорю, что тоже пойду с ними. Сестра молча взяла меня за руку, и мы пошли по берегу Аниша.
Солнце стояло в самом зените, было очень знойно. Вода на реке казалась застывшей, как зеркало, даже глазам больно смотреть. На берегу, под раскидистыми ветлами, резвятся дети, некоторые с криком и смехом барахтаются в воде. Мы проходим мимо кузницы, откуда доносятся методичные удары молота о наковальню. Одетый в красную рубаху и кожаный фартук кузнец-богатырь кует что-то. Недалеко от кузницы, прямо на земле, играет его дочурка. Желтоволосая, в розовом ситцевом платьице, она похожа на красивую бабочку. Мне хочется разглядеть ее вблизи, поиграть с ней, но я не смею ее отца.
Мы идем по тенистой прохладной тропинке. Палец мой болит теперь еще сильнее, и я отстаю от старших. Сестра замечает это и говорит мне:
— Не ходи с нами дальше. Иди вон с Катей поиграй.
Но я упрямо иду за ними, а сама все время оглядываюсь на мелькающую сквозь кусты Катю. «Может, и вправду пойти поиграть с ней, пока отец не видит?»—думаю.
— Ну, тогда оставайся здесь, сейчас нарву тебе цветов,—говорит, подмигивая подружке, сестра.—Мы прогоним собаку, что за тобой гонится, и сейчас же вернемся сюда.
Вскоре они вернулись с целой охапкой цветов.
— Вот, играй, только к воде близко не подходи, водяной поймает,— наказала мне сестра.
Я посадила цветы в мягкий песок, огородила их забором из палочек, проложила между ними дорожки. Но вскоре мне стало скучно, и я, забыв про ушибленный палец, встала. И тут увидела на другом берегу сестру с подружкой. Подбежала к самой воде и, ухватившись руками за прутья, крикнула что есть силы:
Вы куда-а?
Сиди-и там же-е! Мы тебе принесем булдрана-а*!— тонким голосом отозвалась сестра.
Мне стало обидно, что они меня обманули, и я горько расплакалась. И тут, взглянув в воду, я увидела прямо перед собой плачущую девочку. От удивления я даже перестала плакать. Смотрю — и девочка закрыла рот, глядит прямо на меня. Я вытерла нос подолом платья — девочка проделала то же самое. Я рассмеялась—она тоже. Вдобавок, на ней такое же белое платье, как и на мне. Даже ссадина на коленке—вчера я взобралась на забор, а потом шлепнулась оттуда—у нее точь-в-точь на том же месте, что и у меня. И ноги даже чуть кривые, и низенькая она, как и я, рыжеватые реденькие волосы чуть спущены на лоб, карие глаза смотрят широко и удивленно.
Долго я простояла, разглядывая в воде самое себя и никак не догадываясь, что это мое отражение. Вдруг за моей спиной послышались шаги. Я оглянулась. По тропинке шел мужчина в черном картузе, в пиджаке из синего сукна и таких же шароварах, в сапогах. Поравнявшись со мной, он взглянул на меня—мне показалось, очень сердито. И ноги мои вдруг поскользнулись, я выпустила ветку, за которую все время держалась, и, дико вскрикнув, скатилась с берега в воду.
...Темно. Кажется, что на меня навалили что-то очень тяжелое, и я не могу шевельнуться. Но вот слышу голоса, вначале слабые, потом — все громче и яснее. Открываю глаза. Вверху лазурное небо, солнце, белые, словно кружевные, облака...
— Глаза открыла,—говорит кто-то.
Надо мной склонился кузнец и смотрит своими ясными ласковыми глазами. Его кумачовая рубаха прилипла к телу, а с вьющихся черных волос мне на лицо капает вода.
— Ну, ну, не закрывай глаза-то, теперь уж будешь жить,—говорит он, растягивая губы в улыбке.
Я приподняла голову, огляделась. Оказывается, лежу на берегу речки, а около меня, кроме кузнеца, стоят его дочка Катя и женщина с мотыгой в руках. Катя смотрит расширенными от страха васильковыми глазами, вот-вот расплачется.
Как тебя, Гаврила, бог надоумил сюда прибежать?—спрашивает женщина.
Да не бог, а Катя. Примчалась с плачем и говорит: девочка утонула. Ну, я бегом сюда да в воду, в то место, куда Катя показала. Шарю по дну, голова ребячья попалась. Вытащил. Она уж посинела, не дышит. Я ее вниз головой подержал, из нее и полилась вода. Так и ожила,—неторопливо, уже спокойно рассказывал кузнец.
А я мотыжу картошку в огороде,—снова заговорила женщина,—вдруг слышу: ребенок страшно закричал. В это время как раз Шешле Ягур проходит. Чей там ребенок кричит, спрашиваю что стряслось? «Да чья-то девчонка, видать, утонула»,—отвечает и идет дальше... Эх, и человек ты, думаю. Камень, и тот вроде теплее бывает.
Да неужто у богача душа за бедных болит? Никто ему не нужен, кроме самого себя!—сверкнул глазами кузнец.
Катя подошла ко мне и, присев на корточки, стала распутывать мои мокрые волосы. В это время и подбежала запыхавшаяся мать.
Эх, горе ты мое, горюшко! Зачем к воде-то подошла, зачем? Ведь утонула бы, если не добрые люди! И знать бы никто не знал! Ох-хо-хо!..—запричитала она, поднимая меня с земли оглядывая так, как будто видела впервые. Потом, успокоившись немного, повернулась к кузнецу:
- Всю жизнь будем за тебя богу молиться, Гаврила. Уж не знаю, как тебя благодарить за дочку...
Брось, Праски, ерунду-то городить! Чего уж там! В беде не помочь человеку—как же иначе?
И кузнец, широко ступая босыми ногами, зашагал к кузнице. Катя вприпрыжку побежала за ним.
Ушла в свой огород и женщина с мотыгой. Мать собрала в пучок мои мокрые волосы, отряхнула с платья налипшие водоросли, взяла за руку, и мы пошли домой. Я уже окончательно пришла в себя и была страшно рада, что жива, что иду рядом с матерью домой. По дороге я поминутно оглядывалась, чтобы еще раз увидеть своего спасителя, кузнеца.
Как мне потом рассказывала мать, было мне в ту роковую пору шесть лет.