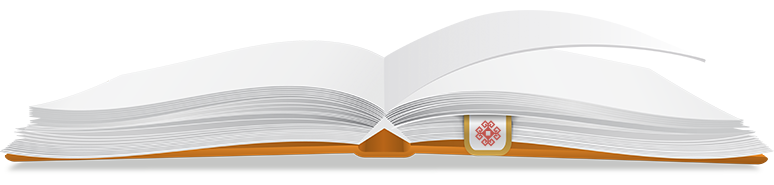Голубая стрела
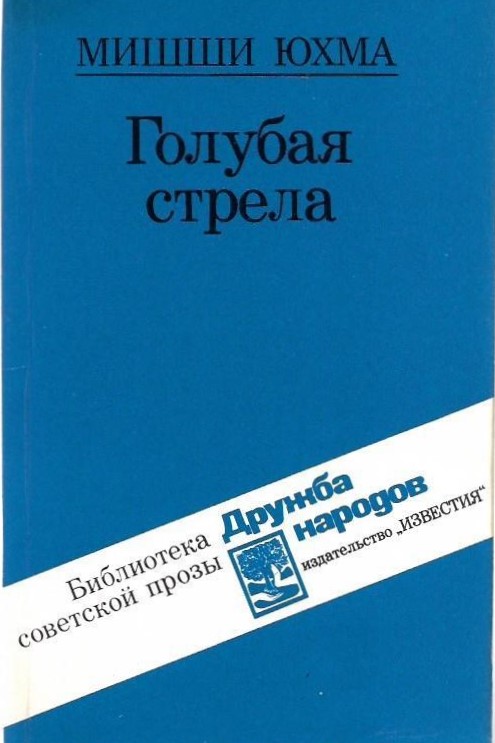
Отрывок из романа
ПРОЛОГолог
По лугам, по лугам, ай, ходил,
Не нашел алого цветочка.
По домам, по домам, ай, ходил
Не нашел тебя милее.
Оседлал резвого, резвого коня,
Чтобы с южным ветром поспорить.
И запел я песню, ай, песню,
Чтобы тебя, милый друг, порадовать.
Резвый конь в луга не мчится,
Хоть туда указан путь.
Слава о тебе, друг, не угаснет,
Хоть и лежишь ты в сырой земле.
Чувашская народная песня о погибшем герое
Первые лучи солнца золотыми стрелами влетели в окошко черной избы, перескочили на бревна близ путмара − широкой деревянной кровати, украшенной резным орнаментом, соскользнули на тощую подушку в разноцветных заплатках, осветили голову старика с кровоподтеками на лице, с вытекшим левым глазом, с повыдерганной бороденкой. Щупленький старик дышал тяжело, со свистом, стонал; бесцветные губы его запеклись.
− Воды-и!
Из-за черной курной печки вышла девочка лет десяти-одиннадцати, худенькая, с тонкими ножками, будто жердочки. Подойдя к путмару, она нахмурила черные крутые брови, прядка волос упала, прикрыла родинку на лбу. Девочка замотала головою, и прядка занавесила ее глаза, а поправить волосы руками не могла, ибо несла шыв-курги − деревянный глубокий ковш с подвесной ручкой. С усилием она приподняла тяжелый шыв-курги со свежей родниковой водой, − золотящиеся в лучах солнца капли падали на половицы, − поднесла ко рту старика.
− Вот, асатте, пей! Пей!
Дед, медленно шевеля воспаленными губами, припал к ковшу, громко глотнул, кровавые пузыри вскипали в углу его рта. Долго пил старик, проливая воду себе на бороду, на грудь, вдруг откинулся на подушку, быстро-быстро, со всхлипыванием, задышал; в правом глазу его стояли слезы. Отдышавшись, старик прошептал еле слышно:
− Спасибо, внучка, спасибо, Угаслу…
Отнесся ковш за печку, девочка опустилась на низенькую скамейку и заплакала, но беззвучно, чтобы не услышал дед, зажимая рот рукою, давясь рыданьями. И все же дедушка почувствовал сердцем, – не услышал, – Угаслу плачет, и позвал ее к себе:
− Ачам-внучка, поди сюда...
Голос деда неожиданно окреп, лицо порозовело, словно он только что хлебнул не родниковой, а волшебной животворящей воды.
Девочка подошла к путмару, присела на край деревянной кровати. Не плачь, Угаслу, авось и поправлюсь. Боги не оставят нас в беде, они милостивые, пожалеют если не меня, то тебя. Ведь без меня ты пропадешь... О-о-о, проклятый род Хунчара! О-о-о, убийцы!.. Эй, всевидящий Тангар, великий Тора, обрушь свой праведный гнев на презренный род Хунчара!
Лежи тихо, дедушка! Нельзя так кричать! − строго приказала Угаслу.
И старик безропотно повиновался, заговорил отрывисто, хрипло, часто умолкал, кусая губы от унизительного чувства бессилия:
− Слушай, внучка, слушай предсмертное завещанье. Каждое слово храни в душе... Давно-давно, когда чуваши были гордыми, как степные орлы, и выходили на врага с саблей, и умирали на поле брани, а не на путмаре, когда еще не говорили: «Покорную голову меч не сечет», а, наоборот, верили: «Всадника с саблей в руке чужая сабля не коснется», − на нашу страну обрушились коварные, злые захватчики. В кровавых битвах наши всадники были разгромлены. Народ в страхе и горе ушел в леса. И вдруг разнеслась весть: молодой батор, еще безусый, но храбрый, созывает парней, на конях, со стрелами, с мечами под свое знамя. И молодые хлынули к нему... Конь батора был подобен молнии. Сабля его была смертоносной. Люди поверили в этого атамана, пошли за ним в бой, в огонь и в воду. Безымянный полководец, до безумия смелый, с отрядами чувашских баторов очистил родную землю от пришельцев и вернул мирную жизнь народу... Однако верно сказано: светлый день сменяется мрачной ночью!... Завистники – старые атаманы сговорились отнять у молодого предводителя бранную славу. Устроили засаду… – старик говорил все медленнее, все бессвязнее.
– Могучий конь домчал хозяина до лагеря чувашских воинов. Стрела торчала в его груди, пробив кольчугу. Молодой полководец свалился из седла… Ильтилет!.. Ильтилет… – в горле деда заклокотало, захлюпало, алая струйка потекла изо рта.
– Асатте! – отчаянно крикнула девочка.
Дед уплывал от нее в деревянной ладье путмара к далекому берегу, откуда нет возврата, повторяя: «Ильтилет!», вкладывая в это имя всю силу ненависти к роду Хунчара и любви к внучке, которую он теперь оставлял на произвол судьбы.
Поняла ли завещанье деда Угаслу?
Ильтилет!
Часть первая
ВЕТОЧКА-СИРОТИНОЧКА
Чем быть сиротиночкой, ай, сиротиночкой,
Быть бы мне сухой веткой, ай, веточкой,
Отломиться бы от порыва весеннего ветра,
Уплыть бы с вешней водою, ай, водою.
Быть бы лучше венчиком, ай, чертополоха,
Улететь бы с порывом осеннего, ай, ветра,
Упасть бы в середину светлого, ай, озера.
Стать бы рыбой-щукой, ай, в озере.
Угодить бы в сеть из крепкого, ай, суровья,
Свариться бы в медном, ай, котле,
Лежать бы на белом, ай, блюде,
Накормить бы добрых, ай, добрых людей.
Чем быть сиротиночкой, ай, сиротиночкой,
Быть бы мне сухой веткой, ай, веточкой,
Быть бы мне рыбой-щукой, ай, щукой,
Накормить бы голодных, ай, голодных сирот,
Чем быть сиротиночкой, ай, сиротиночкой.
Чувашская народная песня
СВАХА УГАБИ-КИНЕМЕЙ
По древнечувашскому календарю пятый месяц Сю, поздняя весна, а на дворе, в полях ненастье осеннее, безжалостное. Земля нетерпеливо ждала летнего зноя, чтобы согреться, но холода не проходили. Правда, в третьем месяце Пуш выпали благодатные солнечные деньки, поля почернели, прогрелись, набухли влагой и приняли в чрево свое семена, брошенные рукою сеятеля. Вскоре брызнули зеленые всходы, но вдруг нежданно-негаданно грянули утренние заморозки, и земля заледенела, будто неведомая злая сила решила наказать народ голодом за тяжкие провинности.
− К войне! − сокрушенно качали бородами старики шурсухалы, выходя по вечерам на подворье и нюхая сырой ветер, как дикие волки.
− К покойникам, − стонали старухи, по утрам глядя на тусклый диск восходящего солнца. − Солнце − белое, значит, будет год урожайным на покойников!
Люди верили старикам и старухам и в ужасе молились своим древним богам. По деревням ходила молва, что невиданные страдания выпадут на чувашей за то, что повсюду заброшены старые молельни, забыты народные боги, что в волостях построены православные храмы, в которых русские попы учат молящихся вере в одного бога, а вера эта греховная, ибо на семи небесах не один бог − их много. Из избы в избу ползли слухи, что кое-где в Чувашии народ не повинуется царским властям, что в лесах и степях бродят шайки разбойников, которые грабят купцов, чиновников, а зачастую и своих мужиков-богатеев.
Оробев, люди решили, что приближается ахарсамана − светопреставление, когда восстанут из могил богатыри, которые в отдаленные времена не давали чувашей в обиду иноземцам и иноверцам. Как спасти свои души? И в глухих деревнях тайно восстанавливали старые молельни, где предки приносили жертвы богам. Священники в волостях не требовали от прихожан неукоснительного соблюдения обрядов, и смельчаки перестали ходить в церковь, а крестьяне благоразумные, осмотрительные посещали храмы, но и своим богам молились. Вот до чего довел народ лютый месяц Сю!..
В деревне Кильдеш слухи о близкой войне с неисчислимыми жертвами довели людей до повального неповиновения русскому богу и церковным властям. Среди бела дня верующие хлынули в Киреметь-карди − молельню и место жертвоприношения, а на липу, растущую там, опять повесили священный кинжал-ангар, и опять в честь великого бога Киреметя там пролилась на землю горячая кровь жертвенных агнцев.
Кильдеш − селение большое, раскидистое, прилепившееся, как ласточкино гнездо, к высокой, увенчанной дремучим лесом горе. В Кильдеше три слободы: верхняя − Турикас, средняя − Анаткас и крайняя − Кайрикас. У каждой слободки − свой облик. В Анаткасе дома высокие, светлые, расположились они широко по берегу безымянной речки, стремясь отхватить себе побольше земли, простора, солнечного сияния. Именно в Анаткасе горделиво красуется деревянная церковь со стройной колокольней и куполами. Храм возвели своими руками чуваши в восхваление жителей Анаткаса и на беду обитателей Турикаса и Кайрикаса. Эти слободки − убежища бедняков. Избы здесь покосившиеся, вросшие в землю, иные и без труб − топятся по-черному, узкие окна затянуты бычьими пузырями вместо стекол. Домишки стоят тесно, кучно, гнездышками, вокруг избы главы рода, они жмутся к нему, как бы боясь занять лишний клочок общинной земли. Самые ветхие избы в Турикасе − верхней слободке, видимой издалека, срамят они все селение своими рубищами, своим горем. Там, на отшибе, словно изгой, примостилась черная изба, можно подумать, что соседние дома нарочно отодвинулись от нее, как от чумной. В этой одинокой избушке и жила Угаслу.
Студеным днем месяца Сю девушка топила печку, морщась от лезущего в слезящиеся глаза дыма, отгоняла ягненка, который то нюхал сор в углу, то жевал подол ее платья. Похоже, что одному ягненку было весело в этом пристанище сиротского горя, нищеты.
− Пычиш! −отогнала ягненка Угаслу.
Тот будто понял, отпрыгнул, круто опустил голову, несколько раз стукнул копытцем по половице,− можно было догадаться, что обиделся.
− Эй, хайван, эй, друг единственный! − засмеялась Угаслу. Однако буквально через мгновенье она пригорюнилась, села на низенькую скамеечку и, глядя в огонь, запела негромко:
Песня − тоскливая, вроде бы грусть-печаль должна нагонять. Ан нет, Угаслу приободрилась. Видно, правду говорят, песня утешает людей в самом бы, казалось, неизбывном горе. Ягненок прижался к ногам хозяйки, будто понял и ее тоску, и ее надежду.
В сенях послышались шаги, без стука дверь открылась, вошла сгорбленная костлявая старуха со злым лицом. Она подошла к печке, сморщила сухие, дрогнувшие в кривой гримасе губы − это должно было обозначать улыбку − и быстро затараторила:
− Э-э? Аван-и!.. Верно говорю, э-э? Ищешь утешение в беседе с этим хайваном? Конечно, одиночество, э-э!.. Не зря говорят, что ад слаще одинокой жизни. Рады ли в этом доме приходу гостьи? Э-э? Пусть мое благословение поможет хозяйке этого дома найти свое счастье! Пусть сам Хунхасьси не оставит ее без своего попечения! К тебе я, доченька, пришла. Есть разговор к тебе. Добром ли меня встречаешь? Э-э?..
Девушка проворно встала с путмара, отогнала ягненка, поклонилась.
− Аван-ха! Проходите, Угаби-кинемей... Садитесь, нет-нет, вот сюда, на кошму садитесь!
Старуха хмуро осклабилась, села на широкую, вдоль стены, лавку, устланную белой кошмою.
− Э-э, доченька, э-э, Угаслу, мое дело требует обстоятельного разговора.
Девушка почтительно кивнула.
− Конечно, Угаби-кинемей, я внимательно слушаю. Обычай велит хозяевам с уважением встречать гостей. Будь иначе − и на порог не пустила бы ее Угаслу. Чуяла сердцем − не к добру ее приход. До сих пор ни в один дом не принесла радости эта болтливая сплетница. «Язык у старухи Угаби длинный и без костей, − говорили на селе. − Любого оклевещет...»
Тем временем старуха пристально осмотрела бедное жилище Угаслу, многозначительно поджала губы.
− Говорят, если перед дорогой завяжешь оборки лаптей узлом вперед, а не сбоку, то это к удаче, э-э-з?. Так и вышло! Бедно живешь, доченька, одиноко, а я к тебе с доброй вестью пришла. Захочешь ли выслушать, э-э?.. Говорят, что в этом доме выгулялась телушка. Шыхаль, сын Савандера из рода Хунчара, хочет купить телушку, э-э?..
Извечное народное сватовство ошеломило Угаслу, она попятилась, по нежному худенькому лицу пробежала нервная дрожь. «Шыхаль, сын Савандера! Проклятый род Хунчара! А ведь доносы Савандера погубили моего отца и мою мать. Теперь осмелели, решили купить приглянувшуюся телушку!..».
Обругать, выгнать сваху? Да разве это поможет? От гнева девушка побледнела, выпрямилась.
Она не помнила отца и мать, осиротела совсем крохотной. Из рассказов деда Угаслу узнала историю их гибели. Вот как произошло то страшное дело. Испухан, отец Угаслу, совершил жертвоприношение богам в честь только что родившейся дочери, единственной, долгожданной. Пронюхав об этом, Савандер, чтобы выслужиться перед властями, побежал с доносом к попу Иннокентию, безжалостно каравшему прихожан за отступничество от обрядов христианства. Кстати, сам Иннокентий был коренным чувашем, но в духовной семинарии он обрусел и ожесточился... Узнав о языческом жертвоприношении, поп вломился в дом Испухана и предал анафеме − проклял еще не оправившуюся после тяжелых родов мать Угаслу. Бедняжка до того перепугалась, что тронулась умом и умерла в одночасье. В этот день Испухан работал в дальнем лесу, выполнял лашманную повинность − возил с односельчанами дубы-великаны, в три обхвата, на берег реки Хырла.
Справедливо сказано, что худая весть скачет на аргамаке... Донеслось до Испухана, что осиротела его первородная... Примчавшись в деревню, он нашел на кладбище могильный холм, а у добрых соседей − плачущую малютку Угаслу. Обезумев от горя, Испухан побежал в церковь, нарушил благолепие обедни, завопил: «Руки просят отмщения!» − и бесстрашно ступил на амвон, схватил облаченного в золототканые ризы Иннокентия. Куштаны − прихлебатели набросились на святотатца, а когда Испухан начал сопротивляться, − вонзили острый ангар ему в живот.
«Не буди спящего пса, не связывайся с попом!» − говорят в народе. Забыл в то воскресенье эту мудрую пословицу рыдающий от горя Испухан.
Осталась сиротиночка на попечении деда Атея и соседок. Хлеба, молока хватало, но ведь без материнской ласки ребенок не цветет, как не зеленеет трава без солнечного света. И все же старый Атей вырастил внучку.
Прошло много дней, много недель, много месяцев, и Угаслу исполнилось одиннадцать лет.
Беда идет за бедой. Савандер окончательно обнаглел, − отрекся полностью от древних богов, начал прикарманивать наделы односельчан. Этим летом в дни сенокоса он вывел своих косарей на луг деда Атея.
У змей и скорпионов − одинаковое жало. Так говорят в деревнях. Отец Иннокентий и старые шурсухалы не заступились за Атея. В великой обиде дед взял косу и вышел один защищать свое последнее достояние. Подручные Савандера беспощадно избили старика, и через ночь Угаслу осталась одна-одинешенька на белом свете.
«Шыхаль, сын Савандера из рода Хунчара!..»
Сын убийцы отца, матери, ее деда решил взять Угаслу в жены.
Она вспомнила − ведь ей в то лето уже было одиннадцать − дом Савандера, куда дед Атей поплелся с нею, едва узнал, что на его луг вышли косари богача. Старик хотел кончить раздор миром, договориться с пуяном и отстоять по-хорошему надел, завещанный ему предками. Почему он взял с собою внучку? Видно, хотел приободриться.
Слобода Анаткас встретила их лаем сторожевых псов. Каждый пуян в Анаткасе держал собак для сбережения дома, кладовки, амбаров, хлевов. И собаки узнавали чужого, − едва в околотке появлялся пришелец, поднимали такой оглушительный лай, который способен был разбудить мертвецов на дальнем кладбище.
Атей и девочка прошли мимо церкви, через базарную площадь и остановились перед высокими дубовыми воротами. Плотный, тоже из дубовых досок, забор, точно крепостные стены, огораживал построенный по-белому дом Савандера. Долго они стучали в калитку. Собаки рычали, выли, вскидываясь на дыбки, и потому хозяева и служки не слышали стука. А может, нарочно из-за кичливости не торопились открывать... Когда калитка распахнулась, Угаслу, робко прижавшаяся к боку дедушки, увидела крупного черномордого борова, рывшего землю на дворе. И показалось девочке, что похож боров на хозяина − на Савандера.
− А-а, старые знакомые! − ласково запел чернобородый, тучный и, верно, похожий на борова хозяин, внезапно вынырнувший из-за крыльца.
Дед Атей поклонился низко-низко, а ведь по обычаю молодой Савандер обязан был уважить первым поклоном старика. Но Атею было уже не до соблюдения обычаев,− он понимал, что превратился в бедного просителя.
− С просьбой мы пришли к тебе, о добрый Савандер, с просьбой, да продлятся годы твои на многие лета, − плавно сказал Атей и еще раз поклонился.
− С просьбой?.. Одобряю, − благосклонно улыбнулся хозяин. − Просьба − не требование и не приказ. Слушаю, шурсухал, слушаю...
Конечно, в обычае чувашей пришельца, пусть и нежеланного, пригласить в дом или хотя бы на крыльцо, но Савандер чванился и разговаривал с Атеем через открыую калитку.
Твои косари, Савандер, пришли на мой луг...
Так и полагается, мудрый Атей, − кивнул пуян. − Не только твоя делянка, наделы многих односельчан перешли ко мне.
Я ведь тебе...
Не продал своего луга? Верно! А ты разве забыл, шурсухал, что числишься в моих должниках? И − в неоплатных должниках!
Дед помнил, что весною занял у пуяна семена для посева, но ведь было уговорено, что расплатится он осенью натурой, зерном.
− Время, старик, тяжелое, − пожаловался Савандер вздыхая. − Еще неизвестно, какой выдастся урожай. Мне ведь тоже надо заботиться о своем интересе − семья...
У тебя, шурсухал, ни коровы, ни овец, а у меня стадо! Впрочем, обращайся в суд, − резко оборвал хозяин.
В эту минуту к калитке подошел Шыхаль, хилый, болезненный, изнеженный, как девушка. Брови у него были ястребиные, крутые. Он мигом понял, о чем шел разговор отца с Атеем, и отвернулся, перехватив укоризненный взгляд Угаслу...
И теперь ее сватают за сына этого злодея? Хотят ввести рабыней в ненавистный дом! Никогда Угаслу не покорится, не станет женою Шыхаля. Легче наложить на себя руки, вечно мучиться затем в тамаке, чем радоваться внукам свирепого Савандера, продолжая и умножая проклятый род Хунчара. «А у кого мне искать защиты, спасения?..» Еще в прошлом году она взяла в долг у Савандера шесть пудов ржи. Сейчас понятно, почему пуян не напоминал о долге, − выжидал... Расплатиться с ним Угаслу не сможет никогда, ни деньгами, ни зерном. Все эти годы она перебивалась поденщиной у пуянов. Ее ценили за трудолюбие и проворность, в страду сами хозяева звали поработать, но зимою приходилось залезать в долги. И вот настал срок расплаты.
−Дом богатый, − заливалась Угаби-кинемей. − Царицей заживешь, в холе, в довольстве! В церковь пойдешь павой, в шелках-атласах! Все девушки сбегутся поглазеть − позавидуют. А парень-то каков! Э-э? Шыхаль-то молодец из молодцов. За такого любая пойдет, − только помани. Счастья тебе желаю, доченька, э-э... Счастья!
Издавна добрые люди ведали горькую долю сироты и сложили песню: «Зря решили, что вороной конь не устанет, и взвалили на телегу поленницу дров, − зря решили, что сирота все стерпит, и злобой окровавили ее сердце...» Богачи эту песню и слушать не желают, − им любы песенки плясовые и шутейные. Крепилась Угаслу из последних сил, но не выдержала и расплакалась.
А сваха заливалась еще звончее:
− Ты, дочь моя, от счастья плачешь, э-э? Да, да, век будешь меня благодарить. Жених-то какой − золото!. Ты ведь одна-одинешенька, дочь моя, случись завтра беда − кто защитит? Помнишь песню?..
Растет-растет красна девица,
Ягодой наливается.
Осрамил ее злодей −
Слезами умывается.
Не приведи бог, с тобою эдакое стрясется!.. А ведь война близится, э-э. Почему? Река Энлет, знаешь, впадает в Волгу. Иди вверх по течению − выйдешь к озеру. А на том озере остров, и живет на острове Хулдер − царь зверей. Засвистит Хулдер соловьем-разбойником − слетаются птицы, начинается над озером птичья война. Мертвые птицы, говорят, падают в воду, как капли дождя. А свистнул Хулдер дважды − и война закончилась, уцелевшие в кровавой схватке птицы улетают, и сразу же начинается большая война людская, всенародная. Недавно Хулдер свистел раз и свистел два раза, − люди слышали, э-э, я же не придумала, значит, пришел срок большой войне... Подумай, Угаслу, где найдешь кров в военное лихолетье? Кто накормит? Э-э?
Положив голову на стол, девушка негромко плакала.
«Устала сирота жить в одиночестве, вот и обрадовалась, что войдет в богатый дом. От неожиданности и расплакалась. Или привередничает? − думала старуха Угаби. − Не поймешь нынешних девушек, − им и сын богача − не богач, и сын бедняка − не бедняк. Настало время смутное, люди говорят: законы привозят с восьми сторон, − поймешь один, а семь так и остались тайной. Вот и живи по закону!.. Нет, в старину было все проще, э-э».
Поднявшись, сваха взяла свою клюку, многозначительно хмыкнула.
−Угаслу, доченька, нынче в неделю осеннего листопада тебе стукнет семнадцать. Невеста!.. Род Хунчара − богатый. Не теряй своего счастья.
Девушка не откликнулась.
Сваха ушла, стуча клюкою. В печке потрескивали дрова. Ягненок, осмелев после ухода болтливой гостьи, подбежал к хозяйке, затеребил подол ее платья. Угаслу улыбнулась сквозь слезы.
«Сам − сирота, вот и понял, каково мне! У тебя мать зарезал серый волк. Моих − погубил двуногий волк, Савандер...» Ягненок смотрел на неё кроткими жалостными глазами.