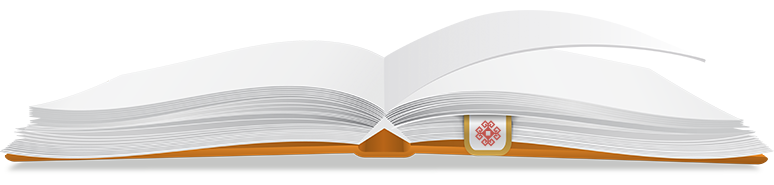И мы солдаты
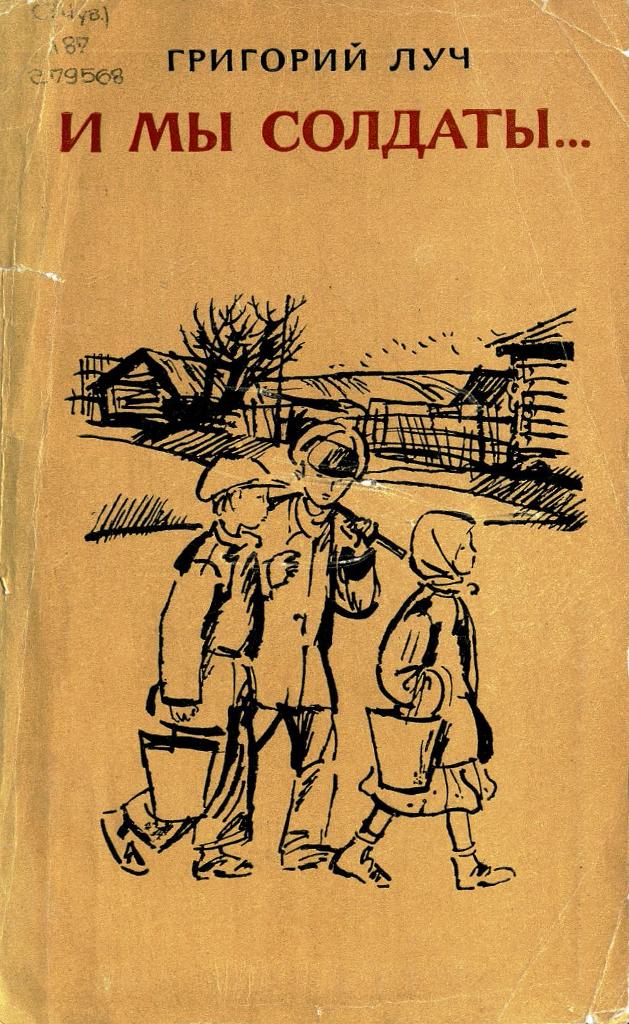
Содержание:
И мы солдаты
И МЫ СОЛДАТЫ
Мы валяемся на мокрой росистой траве у самого озера. Оно совсем неподвижно и блестит, как зеркало. Никому не хочется разрушать его незамутненную поверхность – день только начинается, солнышко еще не печет, а вода в озере холодная, даже в самую жару.
Лениво ворочаемся с боку на бок, болтаем всякую всячину. Наконец, Илюшка, самый неугомонный из нас, не выдерживает – потихоньку сползает к берегу и, зачерпнув в консервную банку воды, окатывает маленького Лешку.
Лешка с громким воплем несется за Илюшкой, толкает меня, я вскакиваю и тут же валюсь на Петю. Мы хохочем – Лешка загоняет обидчика в воду. Илюшка выскакивает оттуда, как ошпаренный, и крутится на месте.
– Ух, – трясется Илюшка и показывает Лешке мокрый кулак, – подожди, я тебя еще не так…
Наверное, он и хотел бы обидеться, но понимает, сам первый начал.
– А водичка – ничего, тепленькая! – кричит он нам и, видя наши недоверчивые ухмылки, зажмурившись кидается в озеро. Тут уж мы не выдерживаем и – за ним!
Барахтаемся у берега, словно утки, визжим, толкаемся, вода кипит вокруг нас и уже не кажется обжигающе холодной. На берег и вылезать страшно – теперь воздух холодит плечи и спины, но вылезать все-таки надо, и вот уже первый смельчак – Илюшка свернулся клубком на траве, посинел весь, зубы выбивают дробь. За ним Лешка, я, Петя, а там и остальные потянулись.
– А ну, кто дольше всех под водой продержится? Давайте на спор! – предлагаю я.
Все помалкивают.
– Считайте! – я ныряю в озеро вниз головой. – Ух! – Открываю глаза и вижу, как бледный солнечный луч освещает мшистые камни.
Со страшной силой выталкивает меня вода, но я сопротивляюсь, хватаюсь за какой-то выступ, не дышу, тяну время. Думаю. Оказывается, и под водой можно думать, смешно! В следующее мгновение лечу вверх. Не выдержал!
На берегу галдеж.
– Тридцать пять!
– Тридцать восемь!
– Тридцать шесть!
Считают ребята, и у всех по-разному получается.
– Нужны часы, – важно говорит Петя.
– Часы, а где их взять?
И правда – где? Ни у кого из нас нет часов, а настенные сюда не принесешь! Куда их вешать?
– Поставим столб, повесим часы и проведем соревнования, – предлагает Петя.
– А кто принесет? – спрашивает Лешка.
– Вот ты и принесешь, – смеются ребята.
Лешка как-то сразу сникает.
– Нет, дедушка не позволит.
Мы хохочем – совсем недавно Лешкин дедушка «воспитывал» внука крапивой и Лешкины вопли разносились по всей деревне.
Лешка густо краснеет и тихонько отходит в сторонку.
– Ладно, – говорю я, – и без часов обойдемся, кто-нибудь один будет считать. Только громко, чтобы все слышали.
– Вот и считай сам, а я нырну. – Опять Лешка тут как тут. Набрав полную грудь воздуха, он прыгает вниз.
– Один, два, – начинаю я отчетливо, – двенадцать… двадцать, двадцать два. – Над водой показывается наголо стриженая белобрысая Лешкина голова. Глаза крепко зажмурены. Стоит, не шевелится. Воображает, наверное, что еще на дне.
– Эй, Лешка, проснись! – смеются ребята.
Лешка вздрагивает и недоуменно открывает глаза.
– Ой, – тихо говорит он и под общий хохот вылезает на берег.
– Кто следующий? – спрашиваю.
Петя молча подходит к берегу, скрывается под водой.
– Один, два, три, четыре, пять, – опять считаю я.
– Ребята! Эй! – доносится чей-то голос со стороны деревни.
– Шесть, семь, – продолжаю я, а голос все ближе и ближе. На тропинке показывается Пашка, бледный, какой-то весь поникший.
– у, что ты раскричался? – напускается на него Илюшка. – У нас соревнование, а ты орешь, не видишь, что ли…
– Ребята, – Пашка говорит с трудом – совсем запыхался, видимо от самой деревни бежал.
– Война началась!
– Какая еще война? – не понимаем мы.
– Война, настоящая война – немцы на нас напали, вашисты.
– Не вашисты, а фашисты, – поправляет Пашку Петька, мы и не заметили, как он из воды выскочил.
К нам подходит дядя Микола, колхозный пастух.
– Да, ребята, Паша правду говорит – на нас напали фашисты. Уже идет война.
– А что это? – спрашивает Лешка из-за моей спины. – Как это – война?
Дядя Микола садится на траву, мы тоже поближе к нему.
– Война – это самое страшное на свете, – говорит он и низко-низко опускает голову. – Фашисты бомбят мирные города, сжигают деревни, убивают людей.
Мы молчим, потрясенные.
– А какие они, фашисты? Звери? Черти?
– А ты видел черта? Что мелешь ерунду!
– Маленькие вы еще совсем, несмышленыши. – Дядя Микола вздыхает, поднимает голову. – В том-то и дело, что фашисты не звери и не черти с рогами, а обыкновенные люди-немцы. И конечно, не все немцы фашисты. Фашисты – это те, кто заставляет свой народ воевать с другими, грабить, убивать.
– А зачем? – возмущается Илюшка.
– Затем, что фашисты хотят подчинить себе весь мир, хотят всех заставить работать на себя.
Нам не все понятно, что говорит дядя Микола, и мы пристаем к нему с расспросами.
– А вы видели фашистов? Хоть на картинке. А они сильнее нас?
Дядя Микола усмехается невесело:
– Не видел, ребятки, но скоро увижу. А кто сильнее – посмотрим. Теперь надо повестки ждать. Получу и уйду на фронт.
– А что это – повестка?
– Бумага такая. На войну зовет.
– И нам ее пришлют? – допытывается Лешка.
– Ну, вы малы еще. Отцам и старшим братьям наверняка повестки придут.
– Жалко, что малы, – вздыхают ребята, – а то бы мы им показали! Ну, ничего, вырастем еще.
– Нет уж, пока вы вырастете, война кончится, – дядя Микола тяжело поднимается и медленно бредет вдоль озера.
Ребята притихли. Каждый занят своими мыслями, невеселыми.
Со стороны деревни бежит женщина – тетя Христина, жена Миколы. Поравнялась с нами. Крикнула на бегу:
– Ребята, беда-то какая! Господи!
Тетя Христина догнала мужа, бросилась к нему, припала и заголосила жалобно.
У нас у всех защипало глаза. Никогда не видели, чтобы так плакали взрослые. Не сговариваясь, мы все бросились к табору. Остановились и молчим. Дядя Микола успокаивает жену.
– Ну, хватит, хватит. Догадываюсь, почему прибежала. Повестка пришла, да?
– Сегодня же, – давясь слезами, прошептала тетя Христина.
– Ну, что же, сегодня так сегодня! – Дядя Микола погладил жену по голове, как маленькую. – Держись молодцом, все будет хорошо, вот увидишь! Верь мне! Слышишь!
Тетя Христина подняла голову и даже улыбнулась сквозь слезы. Дядя Микола повернулся к нам.
– Павел! – обратился он к Пашке, словно ко взрослому. – Ты постарше, посильнее, опять же пионер. Доверяю тебе стадо, а завтра правление найдет другого пастуха. Идет?
Пашка аж побледнел от гордости и волнения. А дядя Микола крепко пожал ему руку и нам всем тоже. Никогда еще взрослые не подавали нам, малышам, руки, а тут сам дядя Микола… Мы даже растерялись и испугались немножко. Да, видимо, война – это действительно что-то страшное и серьезное.
Тетя Христина медленно побрела к деревне, а дядя Микола все стоял, не уходил. Смотрел на озеро, лес, потом сказал нам:
– Ну, так хорошо пасите стадо, надеюсь на вас!
– Не беспокойтесь! – хором закричали ребята.
Ушел дядя Микола, а мы все молчаливо сидели у табора. Какое уж тут веселье!
– Мой отец, может, тоже повестку получил! – вдруг сказал Петя. – Уедет и не попрощаешься! Я побегу.
– И я…
– И я…
– И я…
– А как же стадо? – вспомнил кто-то.
– Пашке же поручили, вот пусть он и пасет.
– Разве одному справиться?
Пашка говорит спокойно, уверенно:
– Идите, идите, я без вас обойдусь.
Надо же! За несколько минут так изменился человек!
– А ты, Петя, побудь со мной, ты же не маленький, – остановил он Петьку, но Петька хнычет, размазывая слезы:
– А если отца без меня заберут?
Пашка махнул рукой.
Все убежали, только пятки засверкали. Остались мы втроем – Пашка, Лешка и я.
– А наш учитель тоже, наверное, уйдет на войну, – вдруг сказал Лешка.
Конечно, уйдет, все взрослые мужики уйдут.
– Вот хорошо-то будет!
– Это почему же?
– Учителей не будет, и в школу ходить незачем!
– Мне хочется учиться! – говорю я. – А ты, выходит, неучем останешься?
Пашка вдруг разозлился и накинулся на Лешку:
– Сматывайся отсюда, болтун, надоело твои глупости слушать! Постыдился бы в
такой день! Дурак и есть дурак.
Лешка замолчал, сгорбился виновато. И правда, дурак, о чем мечтает!
Мы молчим, прислушиваемся: из деревни ветер доносит слова старинной, я ее еще от бабушки слышал, солдатской песни:
Проплывают гуси-лебеди
По бескрайней синеве…
…Откуда не возьмись набежали тяжелые темные тучи, закрыли солнце, и сразу стало холодно и зябко.Мы прижались друг к другу. Я к Пашке, Лешка ко мне. Так-то теплее, вместе.
2
Народу в нашей избе – не протолкнешься. Почти вся деревня собралась. Каждый день приносят повестки, мужиков в деревне почти не осталось. Сегодня мы провожаем на фронт отца. Мама, грустная, бледная от волнения, ставит на стол домашнее пиво, обносит тех, кто не уместился за столом. Разговоры теперь только о войне, о злодеяниях фашистов – никого не жалеют гады, ни стариков, ни детей. Женщины жмутся к стене, молчаливые, подавленные. Мы, ребята, крутимся в избе, то и дело нарываясь на толчки и подзатыльники взрослых. Старенький дед Юлдусь вовсю старается развеять тяжелое настроение за столом. Обычно он хоть кого насмешит своими россказнями. Все самые смешные и несуразные истории в деревне обязательно случаются с дедом Юлдусем.
Но на этот раз даже Юлдусь никого не рассмешил.
Я хочу пробраться поближе к отцу и натыкаюсь на маму.
– Не путайся ты под ногами! – говорит она раздраженно. – Залезай вон на печь!
Я нехотя лезу на печь. А тут, оказывается, совсем и не плохо – все видно и слышно, хотя изба и гудит, как растревоженный улей. Старший брат, видимо, сообразил это и забирается ко мне. Он уже совсем большой – ему четырнадцать. Сверху нам видно отца, и он на нас посматривает, улыбается, правда, улыбка у него невеселая. Слышу: рядом брат засопел, глаза трет кулаком, отворачивается от меня. Хотел я его подразнить, да нет – еще стукнет сгоряча.
Наконец, скамейки задвигались, все встали, вышли из-за стола. Отец поднялся последним. В руках у него расшитые платки, на плече полотенце. Это – подарки. Обычай у нас такой – дарить полотенца и платки – на счастье! Полотенца красивые, с узорами. Дядя Муся растянул гармошку, заиграл что-то грустное, запел. И все стали подпевать ему. А мама и сестры отца – наши тетки заплакали. Брат рядом тоже хлюпает, да и у меня глаза защипало. Но вообще-то я никогда не плакал – не умел. И всегда этим гордился, вот я какой – никто моих слез не видел. А сейчас того гляди разревусь.
Брат спрыгнул с печки, я за ним. К отцу не протолкнешься – все его окружили, двинулись к двери. Наверное, сейчас усядутся в тарантас и с песнями по деревне!
Но получилось совсем не так. Вышли все со двора и гурьбой направились к околице. Мужчины с отцом, а женщины сзади, с мамой. Почти у каждой в руках чайник с пивом. Мы с братом идем рядом с лошадью, запряженной в тарантас.
Над старой ивой вьются грачи:
– Грачи мы, грачи!
Вот хвастуны! Подождите, я вам задам!
Нет, наверное, на дереве гнезда, которое бы я не разорил. Вот они меня и дразнят. Я было остановился, но мама как почувствовала, что я затеял недоброе, оглянулась, закричала:
– Ты что, сдурел? Даже сейчас озорничаешь? Отец на фронт уходит, а ты о чем думаешь? Ой-ой-ой! – заголосила она. – И на кого ты меня оставляешь с этими сорванцами! Как я с ними управлюсь!
Женщины подхватили маму под руки, стали ее успокаивать. Мне было очень стыдно. Я бросился к маме.
– Не плачь, вот увидишь, папа фашистов разобьет и домой вернется! И я поумнею за это время!
Мама силится улыбнуться сквозь слезы:
– Совсем ты у меня несмышленыш! Господи, что же будет с нами?
– Ты, сноха, не убивайся уж так-то! – говорят женщины. – Почитай в каждой семье кормильца провожают. Все мы с ребятами на руках остаемся! Несмышленыш-то твой дело говорит. Разобьют фашистов мужики и вернутся домой!
Мама перестает плакать, вытирает рукавом глаза, даже улыбается. Вот, оказывается, какие слова успокаивают взрослых!
У околицы все остановились. Дед Максим, уважаемый в деревне человек, вынул из кармана яйцо и протянул его отцу:
– А ну, бросай его, Васюк!
Отец размахнулся изо всей силы и закинул яйцо далеко-далеко.
– Ну-ка, сынок, – командует Максим, – принеси, если цело, не разбилось.
Я побежал, только голые пятки засверкали, за мной вся ребятня.
На вспаханном поле, в пыли, я нашел яйцо. Целое!
Бросился обратно, бегу, кричу, показываю свою находку.
Дед Максим усмехается, все довольны, хлопают отца по плечу.
– Ну, Вася, вернешься с войны целым и невредимым! Яйцо-то не разбилось!
Не люблю прощаний! Так тяжело на душе делается! Мама опять как каменная, только глаза блестят от слез, прижалась к отцу, не отпускает. Женщины с трудом оторвали ее, опять стали успокаивать. Папа обнял брата, меня, сказал ласково:
– Ну, надеюсь на вас, ребята. Маму слушайтесь, помогайте ей, растите, умнейте, меня не забывайте!
Тут уж брат не выдержал, заревел, не стесняясь.
Отец махнул рукой, отвернулся, подошел к бабушке, сестрам.
Провожать отца в Канаш – на призывной пункт – поехали мама, дед Максим и брат. Я остался с бабушкой. Долго мы с ней стояли, смотрели, пока тарантас не скрылся в лесу. Отец так ни разу и не обернулся.
Потом все разошлись – в поле жать. В этот день больше уже никого не провожали, не слышалось грустных песен, даже ребята не шумели.
Мы с бабушкой уселись на крылечке – не хотелось идти в пустую избу.
Громко закричал петух в сарае.
– И чего орет, горлопан! – сказал я, но бабушка возразила:
– Не орет он, Ванек, а жалуется!
– Чего-чего? – не понял я.
Бабушка головой покачала, объяснила:
– «Отца не-ет!» Вот что сказал петух. А ты и не догадался, глупенький?
Я рассмеялся. Ай да бабушка! Петухи только в сказках разговаривают. Это-то я уж соображаю, хоть и маленький.
Бабушка улыбнулась, погладила меня по голове.
Я подумал, а может, и правда петух отца жалеет. Ведь он всегда за курами ухаживал. Вставал пораньше, кормил их перед работой. А кто их теперь кормить будет? Ну, конечно, я. Это ничего, что вставать рано придется. И маме и бабушке утром некогда – своих дел полно. Я же понимаю – война. Теперь и я должен быть помощником в доме, не такой уж я маленький. Эти мысли меня совсем успокоили, и я сказал бабушке:
– Ну, пойдем, что ли, в избе приберем.
Бабушка усмехнулась:
– Пойдем, пойдем, внучек мой, помощник, наши то приедут, а в избе порядок, чистота, как хорошо!
3
Сегодня на перемене выходить на улицу не хочется – холодно, да и ветер сырой, на уроке еле отогрелись. Зато уж сейчас никто не мерзнет. Носимся по партам, играем в догонялки. Девчонки собрались в кучу, о чем-то шепчутся, хихикают. Петька, как обычно, что-то сосредоточенно рисует на доске – это его любимое занятие. Лешка подрался с кем-то, и не разберешь сразу – оба клубком катаются по полу. Я на бегу сдернул платок с Таниной головы. Таня, как будто только этого и ждала, бросилась за мной, да куда ей, девчонке! Шум, крики, пыль столбом!
– Палук, палук! – завопил истошным голосом Илюшка.
– Сам ты палук! – девчонки бросились к Илюшке, как будто сроду паука не видали. В каждом доме они есть, спускаются с потолка на тоненьких ниточках. Бабушка всегда радуется: пауки – к письму, к хорошей вести. Это значит, к письму от папы. Какая весть может быть лучше этой? Но письма что-то нет и нет. Врут пока пауки! Да и не мы одни ждем письма с фронта. Поэтому посмотреть на паука сбегаются все.
Паук носится по подоконнику, как мы на перемене! Ножки тоненькие, длинные, да и много их. Илюшка хочет схватить паука, но не тут-то было. Паук уже побежал по стеклу вверх. Все руки потянулись за ним.
Раз – лопнуло стекло, посыпались осколки, а паука, или палука, как зовет его Илюшка, и след простыл.
Вот тебе и добрые вести!
Прозвенел звонок, мы молчком усаживаемся за парты. В разбитое стекло дует ледяной ветер.
– Что теперь делать? – говорит Таня упавшим голосом – она у нас староста, ей первой придется отвечать за такое озорство!
– У кого дома есть стекло?
Ребята загалдели:
– До войны у всех было, а сейчас и в магазине не найдешь.
– Еще бы! Стекло фронту необходимо.
– А для чего?
– Порох из него делается, – ляпнул Лешка.
Все захохотали.
– Ну и врун! Как из стекла порох сделаешь?
Лешка заупрямился:
– Делают, я сам слышал!
– Лешенька, это ты во сне слышал? – ехидничают девчонки.
На пороге вырастает тощая, нескладная фигура Аркадия Ефимовича, нашего учителя.
– Тихо, успокойтесь, почему такой шум в классе? – спрашивает он в недоумении.
Мы виновато молчим, мальчишки опускают головы. Таня говорит еле слышно:
– Окно разбили, Аркадий Ефимович, на перемене.
Учитель изо всех сил старается сделать строгое лицо. Вообще-то он добряк, каких мало, и порядком подраспустил нас. Поэтому нам всякий раз стыдно огорчать его.
– Чья же это работа? – спрашивает он хмурясь и окидывает нас пытливым взором.
Молчим. Теперь потупились и девочки.
– Таня Федорова, ты староста – назови мне, пожалуйста, главного героя, если у него самого язык отнялся с перепугу.
Таня не успела ответить.
– Я разбил, меня и наказывайте, – не выдержал Илюшка.
Я вскочил из-за парты.
– Аркадий Ефимович, не один Илюша виноват, я тоже паука ловил.
Учитель удивленно поднял брови.
– И я.
– И я.
– И я, – раздалось со всех сторон.
– И я, – громко сказала Таня. – Но вы не волнуйтесь, мы найдем стекло и вставим сами. Правда, ребята?
– Конечно, найдем!
– Сегодня же.
Аркадий Ефимович постучал линейкой по столу.
– Много вы мне чего обещали, да только выполнять-то не всегда свои обещания любите! Ну, где сегодня стекло отыщете?
– Честное слово, найдем! – уверяю. – Я придумал.
Аркадий Ефимович улыбнулся – значит, простил и вправду поверил, что мы все исправим.
– Хорошо, хорошо, а теперь я хочу вам сообщить кое-что.
Все переглянулись между собой – не обманул паук. Предсказал вести!
– Не сегодня-завтра морозы ударят, а на полях картофель не успели убрать. Придется нам помочь – сами знаете: картошка фронту нужна. Вот мы всей школой и выйдем в поле. Сейчас же.
Какое уж тут разбитое стекло! Скорей книги в сумки кое-как и бегом одеваться!
У школы не протолкнешься! Как в праздники или 1 сентября.
Наскоро построились и с песнями двинулись в поле. Старшие классы впереди, мы за ними. Как назло, ветер разгулялся. Но мы поем, кричим во все горло. Оказывается, когда кричишь – не так холодно.
А вот и картофельное поле. Сначала кажется – конца края ему нет. Тут и там дымят костры – взрослые сжигают сухую ботву, всякий мусор, который валяется на поле.
Директор объявляет:
– Каждый помогает своей семье – так будет, пожалуй, лучше всего.
Здорово? Я бегу по полю и быстро нахожу маму. Она стоит с лопатой в руках и ждет меня.
– Ванек, скорей, маленький, я копаю – ты собирай.
Из-под лопаты выскакивают мячиками розовые картофелины. Мама старательно вонзает лопату в затвердевшую землю, я с трудом поспеваю выбирать картошку, складываю в кучки. Потом кучки собираю в одну большую кучу.
По полю разъезжают повозки, одни с картошкой спешат в деревню, другие, те, что с красными флажками, – на станцию. Там погрузят нашу картошечку в товарные вагоны и прямо на фронт. Будут солдаты есть горячую картошку, дом вспоминать, своих. А вдруг моя картошка папке попадется, а? Теперь-то мы все представляем, что такое война.
А ветер все сильнее. У мамы губы посинели, глаза слезятся. Пальцы у меня от холода закостенели, не сгибаются совсем.
– Мам, я погреюсь, можно?
Мама молча кивает. Я бегу к ближайшему костру. Тут уже Лешка, Петя, девчонки. Прыгают, толкаются. Я тоже потолкался, сразу теплее стало и на душе повеселело. Теперь и работа заспорится.
Я вернулся к маме. Упрямая, так и не присела отдохнуть и греться не хочет, говорит, и не замерзла совсем, как будто я не вижу.
За работой день быстро идет на убыль. Вот и солнышко спряталось. Закат сегодня красный-красный, к ветру, говорит бабушка. Я засмотрелся на закат. И вдруг представилось, и не закат это вовсе, а зарево от пожаров горящих деревень, вот-вот грохнут наши орудийные залпы и побегут фашисты сломя голову, бросят свои танки, лишь бы свою шкуру спасти. А тут как тут наши солдаты выскочат, и впереди всех папка и дядя Микола!
– Бей фашистских гадов! – закричит папа и бросит гранату…
– Ты что, Ванек, о чем замечтался? Картошку бросил, стоишь и улыбаешься?
Я вздрагиваю от маминого голоса.
– Папу вспомнил! – отвечаю и прихожу в себя.
Мама тяжело вздыхает, подходит ко мне совсем близко.
– Ой, сынок, и у меня нет часа, чтоб не вспомнила.
Она прижимает меня к себе. Война и маму изменила. До войны она не была такой ласковой. И грустной я почти ее не видел.
– Пора домой, – говорит мама, – все уже собираются.
В деревню возвращаемся не строем: каждый со своими. Главные теперь в семье не отцы, а матери. Отцы у всех на фронте. Один хромой дядя Петр – хозяин в своем доме. На поле их четверо, а нас только двое – я и мама. Федя ходит в школу в соседнюю деревню. В нашей деревне – семилетка.
Кто мне сейчас больше всего нужен, так это дядя Петр. Я вспомнил – у него есть стеклорез, а он нам позарез нужен.
– Ты чего, Ванек, под ногами вертишься? – недоумевает дядя Петр.
– Дядя Петь, вставь нам стекло в школе. Мы его разбили. Вставь, пожалуйста!
– А где сейчас стекло возьмешь?
– Ты не беспокойся! Стекло будет. Сегодня же!
– Интересно только, откуда ты его достанешь, – усмехается дядя Петр. – Может, у соседей выставишь? Пока не скажешь, где стекло достанешь, разговора у нас с тобой не получится. Понял?
Конечно, я не намерен открывать дяде Петру мою тайну. Я с трудом разыскиваю Илюшку, отзываю в сторону и делюсь с ним своим планом.
– Молодец, ну молодец, Ванек! – кричит Илюшка. – И как ты только догадался!
На нас оглядываются, я делаю свирепое лицо, и Илюшка смущенно умолкает. Чуть было не проболтался! Вот и имей с таким дело. А вот и Лешка. Он, пожалуй, нам тоже пригодится.
Втроем мы незаметно сходим с дороги, бочком, бочком в кусты, а там по глубокой балке два километра до лесу. Что нам два километра! Тем более дорога на кордон знакома нам до самых маленьких кочек.
Кордон заброшен давно. Но дверь у него всегда на замке. Раньше мы, мальчишки,
так и не решались сломать замок, открыть дверь и обследовать дом изнутри.
Осторожно подкрались к окну. Притихли, затаились. Ни звука, только ветер шуршит ветвями деревьев.
– Давай, – шепчет Илюшка и подставляет мне свою спину.
Я карабкаюсь на завалинку, поближе к окну. По дороге мы нашли подходящую елезку, и я, ловко орудуя ею, разгибаю гвозди, прибитые вокруг рамы.
Один, другой, третий. Вдруг за окном что-то зашуршало, нет, пожалуй, чихнуло. Я ойкнул и чуть было не свалился на Илюшку с Лешкой.
– Скорее! – шепчет Лешка. Я отгибаю последний гвоздь, с трудом вытаскиваю стекло. Чувствую холодный пот на лбу. Это от испуга. Кажется, кто-то непонятный из тьмы дома вот-вот схватит за руку.
– Держи, – я протягиваю стекло Лешке, еле-еле сползаю вниз.
– Ты что дрожишь? – спрашивает Илюша. – Замерз?
– Айда домой быстрее.
Мы бросаемся прочь от кордона. Я впереди, за мной Илюшка, позади Лешка со стеклом. Оказывается, я еще и палец обрезал, сую его в рот и сосу, как маленький.
Дорога обратно кажется длиннее. Да и Лешка ноет – стекло неудобно нести. К тому же и разбить боится.
Наконец-то деревня! Еле-еле переводим дух. Я говорю ребятам:
– В доме кто-то есть. Я слышал шорох.
– Что ты сразу-то не сказал? Мы зашли бы и посмотрели. – Это петушится Лешка. Илюшка испуганно помалкивает.
Лешка – известный хвастун! Воображаю, как бы он скакал со стеклом по кочкам, если бы я рассказал о своих страхах там, у дома.
Вот и школа. Илюшка побежал за дядей Петром, а мы с Лешкой стали протирать стекло травой.
–Ну и ну, где же вы достали такое стекло? – удивился дядя Петр, вынимая из кармана стеклорез.
Дома меня ожидал хороший нагоняй от мамы. Пристала, куда девался, где так долго пропадал. Что делать? Тупо молчать или рассказать все? И так и эдак – под горячую руку отдерет за вихры. Лучше уж помолчу. А я, оказывается, трус…
4
Мама у стола чистит картошку, а я пристроился рядом и загляделся на тусклый бледно-оранжевый огонек мигалки.
– Почисти фитиль, Ванек, – говорит мама, не поднимая головы. – Возьми иголку и почисти, только аккуратно, не как в прошлый раз.
Мне не хочется вставать с места, искать иголку, я так пригрелся у маминого бока, но возразить не решаюсь – мама в последнее время стала раздражительная, нарвешься на подзатыльник.
– Кому я сказала, – повторяет мама и строго смотрит на меня.
Я поднимаюсь, но тут с шумом распахивается дверь и влетает брат.
– Солдаты, солдаты приехали! – кричит он еще с порога.
– Какие еще солдаты? – не понимаю я.
Федя весело смеется, с сожалением глядя на меня – маленького и глупого младшего братишку.
– Свои, свои, Ванек. И много их как! – Он поворачивается и исчезает за дверью.
Я – следом, но мама хвать меня за рубашку.
– А ты куда собрался?
– Мам! – прошу я. – Ну, пусти, я тоже хочу, как Федька, на солдат посмотреть! Небось все ребята там.
– Не проси, не пущу, – сердится мама. – Неслух какой стал без отца!
Я молчком, глотая слезы от обиды, беру иголку.
В дверь постучали. Мы с мамой невольно переглянулись, Это еще что за чудеса? В деревне у нас не принято стучаться. Входи кто хочет – гостю всегда рады…
Опять стук. Я даже немного испугался. Молчим, ждем, что дальше будет.
Вдруг дверь отворяется и на пороге – солдаты! Настоящие! Один, другой, третий, четвертый! А сзади Федька, улыбается во весь рот.
– Здравствуйте, хозяева! – солдаты говорят по-русски. Мы с мамой с трудом их понимаем, а брат русский знает хорошо.
– Мам, они спрашивают, можно ли у нас переночевать. Просят соломы постелить им на пол.
Мама вскочила, засуетилась. Лицо ее зарумянилось, и улыбка на губах.
– Конечно, Феденька, можно, скажи им, не на соломе я их уложу – на перине! Садитесь, отдохните! Сейчас картошку сварю, чай вскипячу!
Мама возится у печки, а солдаты уселись за стол. Федька держится с ними запросто, как взрослый, о чем-то спрашивает по-русски. И все громко смеются. Мне даже завидно стало. Я забился в угол и глаз с них не свожу. Вдруг один, самый пожилой, лет тридцати, не меньше, поднимается и ко мне подходит.
Улыбка у него добрая, ласковая. Взял меня на руки и посадил на колени. А я прижался к нему, даже сам не знаю отчего, и чуть не разревелся – папку вспомнил. Не раз он меня так вот на колени сажал и вихры на затылке ерошил.
Картошка и травяной чай всем очень понравились.
Солдаты угостили нас сахаром. Настоящим сахаром, белым, искрящимся, как снег в морозный день! С тех пор как началась война, мы ни разу не видели сахара.
Когда ужин кончился, мама собрала сахар в тряпочку и хотела вернуть солдатам, но те засмеялись и заговорили разом. Они сказали: «Ребятам надо сахар есть, скорей вырастут!» – перевел Федя.
Солдаты легли на пол и тут же уснули. Только тот, постарше, который меня на колени взял, достал бумагу из сумки и подсел к мигалке.
Я тоже остался за столом и украдкой рассматривал его – он мне очень понравился, казался совсем родным. Я загляделся и очень смутился, когда он неожиданно поднял голову и улыбнулся мне своей доброй улыбкой. Потом опять нагнулся к бумаге, а я и не заметил, как уснул.
Проснулся среди ночи на печи, рядом Федя посапывает, с другой стороны мама во сне вздыхает. В избе темно. Все спят. А утром открыл глаза – один я. Спрыгнул на пол – никого, изба пустая. И солдат нет, и мамы с братишкой. Куда же они все подевались? В окно посмотрел – на дворе ни души. Мне почему-то грустно стало: папку вспомнил. Как-то он там, на этом самом фронте? Отошел я от окна, на лавку присел, вдруг калитка стукнула. Дверь открылась – на пороге мама с Федей.
– Мама! – закричал я. – А где солдаты?
– Проводили, – сказал брат.
– А почему меня не разбудили?
Так ты же спал, Ванек? – удивилась мама. – Вот и не стали тебя тревожить.
– Солдаты не любят сонуль! – засмеялся Федя.
– Сам ты сонная тетеря! – закричал я. – Вот подожди, в следующий раз они придут…
– Не будет следующего раза, сынок, – серьезно сказала мама. – Они на фронт поехали.
– А что здесь делали? – хнычу я.
– Здесь, в тылу, обучались военному делу, – вмешался Федя. – А теперь отправились бить фашистов.
– Чтоб им всем домой вернуться! – вздохнула мама. – Ну, хватит, быстро за стол – позавтракаем и в поле. Картошку копать.
– Федь, Федь, а кто у них главный командир?
– У кого ты на коленях сидел, с кем полуночничал, – улыбается мама. – Очень уж ты ему приглянулся. У него тоже сынок есть, тебе ровесник.
– Откуда ты знаешь, что он главный?
– Эх, ты, а еще солдатом хочешь быть! – засмеялся брат. – Разве не заметил знаки на шинели?
И правда, не заметил. Смотрел во все глаза, а главное-то и проглядел. Хотел я нагрубить Федьке за его обидный смех, но на этот раз сдержался. Хочешь быть солдатом – закаляй волю.
…На улице шум и суета. Опять всей деревней идем копать картошку. Во главе с бригадиром. В деревне бригадира все зовут «жена Григория». Потому что с начала войны работает бригадиром, вместо мужа. Взрослые ее уважают, а мы, ребята, побаиваемся.
По дороге в поле разговоры только о солдатах. Я начал было хвастаться, кто у нас ночевал, да Илюшка захохотал во все горло – оказывается, солдаты во всех домах были.
– Смотри, что они мне подарили, – говорит Илюшка и вынимает из кармана какую-то блестящую штуковину.
– Шашикалка! – объясняет важно. Лешка просто онемел от восторга.
Петька сказал со знанием дела:
– Зажигалка это. Зажги-ка!
Илюшка нажимает пальцем маленькое колесико, что-то щелкает, и вспыхивает маленькое голубое пламя.
Теперь и я немею, как Лешка. Ребята обступают счастливца плотным кольцом.
– Полезная вещь, печку можно затоплять. Не надо в золе угли искать, – говорит кто-то.
– Вот и я так думаю, – протискивается вперед Петька. – Знаешь, меня вчера мама послала за спичками, всю улицу обошел, не нашел – так и пили холодный чай – печку разжечь нечем было. Знал бы, к тебе прибежал!
– Илюш! Иди-ка сюда, костер потух! – зовет его мать.
Илюшка в окружении ребят не спеша подходит, подносит зажигалку к костру, и вот уже оранжевые огоньки побежали во все стороны.
Ребята протягивают руки к огню, греются.
…Представилось – мы солдаты, перед боем греемся у костра. Здорово! Не хочется уходить прочь, но дело есть дело, и мы разбредаемся к своим. Сегодня мы работаем втроем – я, мама и Федя. С братом веселее, и работа двигается быстрее. Теперь уж мама отстает от нас. Просит – отдохнем, сынки!
– Ты, мама, отдыхай! – говорит Федя взрослым голосом. – А мы пока не устали, правда, Ванек?
– Конечно! – кричу я, хотя спина у меня порядком ноет, да и пальцы не гнутся от холода. Но признаваться в этом Феде почему-то не хочется. Оглядываюсь. Кругом горят костры. Сегодня все их развели от солдатской зажигалки. Может, поэтому и работа у всех сегодня спорится. Возы с картошкой знай снуют туда-сюда – на поле пустые, к шоссе полные. На переднем знамя. На красном полотнище слова: «Все для фронта».
Возвращаемся в сумерках. Мама и Федя идут впереди, говорят о чем-то вполголоса. Меня, как всегда, в свои разговоры не пускают. Считают маленьким. Мама с Федей советуется, как бывало с папой до войны. Хорошо быть старшим братом! И мама тебя за равного считает, и младшим братом можно помыкать! Даже и за вихры дернуть разрешается! Ну, ничего, у маленьких – свои преимущества.
– Алешка, Илюш! – кричу я. Верные мои друзья тут как тут.
– Айда на кордон! Проверим, кто там прячется. Может, шпион какой-нибудь?
У Лешки сразу вытягивается лицо, и он начинает внимательно, слишком внимательно рассматривать мое ухо. Чего он там нашел?
Илюшка что-то мямлит. Конечно, не хочется рисковать жизнью, имея такую настоящую солдатскую зажигалку. Но мне терять нечего, и я говорю:
– Ну, как хотите, обойдусь без вас.
Иду быстро, не оглядываюсь. Неужели струсили? Слышу за собой торопливые шаги.
– Ванек, Ванек, подожди, и мы с тобой!
…Долго, крадучись ходим вокруг дома. По спине ползет неприятный холодок. От страха. Собственные лица в сумерках кажутся какими-то белесыми, безглазыми, совсем чужими.
– Может… домой? – шепчет Лешка.
Я грожу ему кулаком. Трус несчастный!
Илюшка молчит, как воды в рот набрал.
– Теперь надо в окно заглянуть! – говорю я.
– А кто заглянет? – шепчет опять Лешки.
– Чур, не я.
– Я.
Илюшка с Лешкой опять подсаживают меня, голова моя у самого окна, того самого, без стекла. А вдруг сейчас высунется рука и схватит меня за вихры. Мурашки побежали по спине.
– Ой, – не выдерживаю я и шарахаюсь от окна. В ту же минуту оказываюсь на земле.
Илюшка с Лешкой мчатся к лесу наперегонки. Бросили меня и удирают во все лопатки. Ну и храбрецы! Вдруг мне становится весело – страха как не бывало. Я снова у окна, подтягиваюсь на руках, вцепившись крепко за рамы, заглядываю в дом.
– Эй, – кричу я, – выходи, кто тут есть! Нас много! Мы тебя не боимся. – В ответ ни звука. В доме темно, пусто, холодно.
Я легко спрыгиваю вниз. Еще раз оглядываюсь на темные окна и не спеша по знакомой тропинке иду к опушке. У большого дуба стоят мои друзья.
– Пошли, – говорю я, великодушно не замечая их смущения. – Там никого нет.
5
Чуть свет мама будит меня:
– Вставай, сынок, вставай, надо до школы сходить в лес. Федюшка уже готов.
Ох, как не хочется слезать с теплой печки, нос высунуть из-под бараньего тулупа и то боязно. Изба к утру выстудилась, окна покрылись толстым слоем льда. Топим теперь экономно – только чтобы еду приготовить, дрова уже кончились, а зима в этом году стоит лютая.
До войны, когда папа был с нами, и зимы были другие. Может, оттого, что дома, в избе, всегда согреешься с мороза. И вечера казались не такими длинными. Бывало, долго за столом засиживались. Папа рассказывал нам смешные истории из своего детства, сказки или объяснял интересные повадки зверей и птиц.
А теперь война. И все по-другому.
Дрова у нас давно кончились, вот и приходится нам с братом ездить ни свет ни заря в лес…
– Сынок, сынок, проснись! – слышу сквозь дрему мамин голос.
– Ну-ка, а еще хочешь быть солдатом! Я его из ковшика полью! – Это Федька. Прибежал за мной со двора.
Мне делается обидно, и сна как не бывало. Нехотя вылезаю из-под тулупа, кряхтя, как столетний дед, надеваю валенки.
Федька посмеивается надо мной, толкает в бок, пока мама отвернулась к ведру за водой.
– Маленький он еще у нас, Федюшка, – вздыхает она, – а мужикову работу приходится справлять.
– Мама, ты полей-ка мне лучше умыться. И вовсе я не маленький, вон какой, скоро Федьку перегоню!
– Скорее! – торопит брат. – Видишь – рассветает!
Быстро накидываю тулуп, напяливаю шапку, брат прячет за голенище отцову ножовку.
Во дворе нас ждут сани, конечно, это и не сани вовсе, а большие санки, а лошади мы сами – Федька и я. Двор еще в сумерках, снег под ногами поскрипывает и кажется почему-то не белым, а темно-синим.
Движения наши быстрые, точные, отработаны до мелочей, чуть зазеваешься — больно щиплется дедушка мороз. Запрягаемся в санки и проворно идем по тропинке. За ночь ее занесло снежком. Приходится мне распрячься и толкать санки сзади. Разговаривать не хочется, на меня опять нападает сонливость. Оказывается, и на ходу можно вздремнуть.
– Говорят, лесник сегодня в город уехал. Побольше нагрузим, – сообщает брат.
«Побольше нарубим – подольше хватит, – соображаю я, – хорошо, что дед Яндуш в город уехал! Почаще бы! Эх, если бы отец дома был, не ходили бы в лес, не боялись лесника. Обычно отец летом заготавливал дрова на всю зиму. Много было у нас дров. А теперь вот ни полена. Поэтому и рубим деревья вокруг деревни. Да и не мы одни. Почти все так делают».
– Ну-ка, Ванек, садись, скатимся под горку! – прерывает мои невеселые мысли Федя.
Я усаживаюсь впереди. Брат разогнал санки и в последнюю минуту вскакивает сзади. Мчимся в овраг, в темень, у меня дух захватывает от страха, хотя днем деревенские ребята частенько катаются здесь. Но в утренних сумерках овраг кажется незнакомым опасным местом.
Потом мы опять бредем по тропинке в лес: впереди Федя, сзади я. Чуть свернешь с тропинки – очутишься в сугробе. Поэтому идем медленно, осторожно. Я представляю себе, как мама затопит печку. В печи любое дерево горит – хоть дуб, хоть липа, хоть сухое, хоть сырое, мерзлое. Сырое, конечно, разжечь труднее. Оно не хочет поддаваться огню, спорит с ним, шипит, плюется. Мама тогда расщепляет липовое полено и подсовывает вниз к горячим уголькам. Мы с Федькой дуем на них изо всех сил. Горький дым ест глаза, наплачешься, как от самого злого лука. Ну, уж если и это не помогает, плеснешь керосину, поможешь огню одолеть непокорные поленья.
– Ванек, ты что, спишь, а? – кричит Федька в самое мое ухо. Мы, оказывается, уже в лесу, а я размечтался и не заметил. Темные деревья обступают нас кругом. Брат деловито примеривается к ним. Старые, мощные нам, конечно, не под силу, и поэтому Федька выбирает молоденький тоненький дубок. Каждый раз мне делается очень жаль деревце. Никогда оно уже не вырастет, не будет красивым зеленым деревом. Солнышко уже не пригреет весной его кудрявую макушку, и птицы не споют ему свои веселые песни.
Я с трудом сдерживаю слезы, боюсь, еще Федька заметит, засмеет.
Вжжик-вжжик – поет ножовка. Дубок не хочет сдаваться, сопротивляется, цепляется за соседей. Но ветви у него еще слабые, ломаются, и наконец деревце с шумом валится в снег. Мы быстро распиливаем его, ломаем ветки, укладываем в сани.
Рядом слышится стук топора. Я вздрагиваю, смотрю испуганно на Федьку. Тот успокаивает:
– Наши, кому ж еще быть?
Мы срубили еще одно деревце. Нагрузили сани, с трудом сдвинули с места.
…Рассветает, снег из синего делается белым, а кое-где уже бледно-розовым – это отблески зари разукрасили его так. Лес проснулся, заговорил глухими звуками топоров, повизгиваньем ножовок. Наверное, вся деревня сегодня здесь. С дровами-то у всех туго.
Взрослых мужиков у нас двое – горбатый Микола да хромой Петр. Они-то заготовили дрова еще с лета. Только в их избах и тепло этой лютой зимой. В других семьях – женщины, старухи да дети. Нужда и гонит их в лес. Колхоз не может сейчас никому помочь. Машин нет, хороших лошадей забрали в армию. На несколько дворов – одна лошадь. Мы тоже владеем вместе с соседями старой-престарой кобылой. Но на ней, как говорится, далеко не уедешь и дров на всех не заготовишь – очередь. «Пока дождешься – от холода помрешь», – говорит бабушка.
Проваливаясь по колено в снег, тянем мы наши тяжелые санки. У березовой рощицы останавливаемся передохнуть.
– Ты, – говорит брат, – слышишь?
Я прислушиваюсь. Какая-то непонятная возня. Может, и там рубят лес?
– Нет, это что-то другое, пойдем посмотрим?
Мы с радостью скидываем лямки – нашу упряжь – и пробираемся по тропинке на полянку.
Как хорошо здесь летом! Трава на поляне высокая, густая, яркие цветы пестрят, бабочки, стрекозы! Зимой поляна совсем другая – тихая, неприветливая, снег наметает сугробы за зиму нам, мальчишкам, по пояс.
Вот и зорька заиграла. Зарозовело все вокруг: стволы берез, снежные сугробы. И совсем рядом какие-то звуки слышатся – смотрим, на ветке сидит большая птица – с крупную ворону – и поет, да так странно, как индюк.
Мы с Федькой фыркнули.
Тетерев!
Птица недовольно посмотрела в нашу сторону, медленно поднялась и улетела. Спугнули! Жалко, конечно.
А что же это на снегу? Темные пятна по всей полянке. И вдруг они ожили. Снежная пыль окутала все вокруг – из-под снега вылетели птицы и с шумом поднялись в воздух. Тетерева! Ну и хитрецы! Когда-то с папой мы вот так же набрели на тетеревиную ночевку. Стояли за деревом и наблюдали – тетерева на деревьях долго о чем-то спорили, совещались: гр-гр, гр-гр… А потом самый большой, может вожак стаи, вдруг взмыл высоко в воздух и камнем полетел вниз, в сугроб. И задвигался, зашевелился в снегу, долго устраивал себе гнездышко, пока затих, только головка темнеет. За первым нырнул второй, третий! Такой шум подняли! Каждый хотел получше устроиться. Мы с папой с трудом сдерживали смех. Наконец птицы угомонились, затихли, а мы потихоньку побрели прочь – пусть спокойно отдыхают!
– Это они от холода прячутся, – сказал папа, – в мороз по нескольку дней сидят в снегу!
…Скрипит, скрипит под полозьями снег. Кое-как выбрались на тропинку. Как хорошие лошади, тянем санки изо всех сил, торопимся. Вон сколько времени потеряли – засмотрелись на птиц! Мама, конечно, беспокоится, все глаза проглядела. Достанется нам под горячую руку! А может, пронесет. Дров-то вон сколько мы сегодня привезем! Обрадуется мама и побраниться забудет.
Во дворе быстро разгружаем санки и – в избу.
Мама из окна видела наши трофеи.
– Намерзлись, поди! – говорит она. – Скорей, скорей, в школу опоздаете!
Наскоро перекусили, схватили свои холщовые сумки, за пазуху картошку, блины и – бегом в школу. Федя в соседнюю деревню, а я – в свою.
Вечером возимся с дровами: пилим, колем, заносим в избу. Сырые дрова надежно спрятали за печку – лесник иногда ходит по домам, проверяет: если найдет дрова – штраф.
Бабушка сейчас живет у старшей дочери, поэтому надеяться нам не на кого. Сами топим печку, жарим без масла картошку, кипятим воду. Радуемся, что к маминому приходу у нас все уже готово. Сегодня удачный день – все ладится, работа спорится, и даже тетеревиную ночевку успели посмотреть! И с Федькой не ссоримся. Эх, папа бы нас увидел сейчас!
Мама приходит с работы усталая, продрогшая. И сразу бросается к печке – погреться.
– Ешь скорей! – говорит брат.
– Не хочется, сынок. Письма не было?
– Нет, мама, не было.
– Месяц уже. Не случилось ли чего…
Мы молчим. Ну, что сказать? Сразу делается грустно. Стоим около нее и вздыхаем.
Мама обняла нас обоих, крепко к себе прижала.
– Ну, хватит, хватит, зачем на плохое думать? Вот увидите, все будет хорошо! Вернется папа, расскажите ему, как дрова из-под носа старого Яндуша увозили! А ну-ка за стол. Тоже небось голодные, меня ждали?
За столом стараемся вовсю отвлечь маму от тяжелых мыслей. Смеемся, шутим, вспоминаем об отце, о том, как хорошо жилось нам до войны.
6
Первый урок у нас – военное дело. Василий Архипович, военрук, носит солдатскую форму – он совсем недавно вернулся с фронта. Правая рука у него висит на привязи, и нога прострелена. Он очень строгий, серьезный, мы его побаиваемся немножко и даже не представляем, умеет ли он улыбаться. Но каким-то особым чутьем знаем, что учитель не злой, а добрый человек. Наверное, он переживает, что не может вернуться обратно на войну из-за раненой руки и ноги и вынужден заниматься с нами.
Сегодня у нас военная игра в лесу. У кого есть лыжи – на лыжах.
Класс разделился на два отряда. Во главе первого – Саня Петров. Второй отряд возглавляю я.
Первый отряд рассыпается по лесу, мы должны найти его и окружить у Студеного родника.
День ясный, солнечный, на небе ни облачка, легкая изморозь посеребрила деревья и кустарники. Мороз пощипывает щеки и носы. Мы осторожно цепью, как учил нас военрук, скользим вдоль опушки. Вдруг вижу, Илюшка повернул к большому дубу. Прислонился к дереву, снял шапку. Я к нему. Илюшка дышит тяжело, а из носа кровь. Я наклонился скорей, схватил снег.
– Держи, приложи к носу – все пройдет.
Но кровь не останавливается. Третий раз снег меняем. Тут уж и я испугался не на шутку. Илюшка плачет, говорит:
– Голова, Ванек, кружится. Упаду сейчас!
– Не бойся, Илюш, – успокаиваю его, – подожди, я мигом!
Хотел повернуть обратно, а тут как раз и Василий Архипович из-за деревьев показался, С трудом идет на лыжах, он ведь хромой.
Военрук прежде всего надел шапку на Илюшкину голову, спросил:
– Что ел утром?
– Крахмал и блины картофельные.
– А хлеб?
– Муки у нас нет давно…
Василий Архипович повернулся ко мне:
– Илюшу надо проводить домой. Кто с ним пойдет? – Ребята потупились молча. Кому охота из военной игры выходить?
– Доставить на место раненого или заболевшего товарища – прямой долг каждого солдата. Добровольцы есть?
– Есть, разрешите мне, товарищ военрук?
Это Лешка.
– Можно доверить Алексею данное ответственное задание? – спрашивает Василий Архипович командира, то есть меня.
– Можно доверить, – твердо отвечаю.
У Илюшки совсем несчастное лицо. Того гляди разревется. Но приказ есть приказ, и солдату приходится подчиняться.
Мы провожаем глазами две маленькие фигурки на самодельных лыжах.
– Ну, а теперь выполняйте задание, – командует военрук. И мы углубляемся на лыжах в лес. Бежим молча, наверстываем упущенное время, старательно петляем между деревьями. Военрук остался далеко позади – где ему угнаться за нами! Мы здесь каждый пенек, каждую ложбинку с закрытыми глазами найдем и обойдем.
– Ребята, слышите, птичка запела? – говорит вполголоса Петя. – О весне напоминает.
– Скворцы скоро прилетят, а вдруг они под пули попадут? Ведь война… – спросил кто-то. Мы расхохотались.
– Птицы не с запада прилетают! – говорит Петя. – Мои обязательно прилетят. А я еще скворечник сделаю. Я уже дерево выбрал.
– И я, и я, – кричим мы.
– Ну, чего расшумелись? – говорю я сердито, как Василий Архипыч. – Нас же услышат, а мы должны незаметно обойти и окружить противника. – Все замолкают, пристыженные. И правда, разорались, как маленькие. Где-то рядом треснула ветка. Мы насторожились, сняли свои «ружья»-палки с плеч. Затаили дыхание, озираемся.
За соседним деревом полыхнуло бледное пламя – да это лиса, за ней другая, третья. Бегут легко, не спеша, хвостом след заметают. Не сговариваясь, мы кинулись за ними. Но разве догнать рыжих – за поворотом их и след простыл. Не успели опомниться, как кругом затрещали «автоматные» очереди.
– Тра-та-та-та! Ура, вы окружены, мы победили.
Вот тебе раз! Нас самих окружили ребята из первого отряда. Тут и спорить бесполезно. Лисицы нас подвели. Оказывается, ребята из группы Сани Петрова тоже их заметили, но не побежали за ними, не хотели проиграть сражение.
– Эх, вы, вам бы только лисиц и гонять! – смеялся Санька.
– Мы тоже выполнили задание, – схитрил я. – Ты разве не знаешь, что они совсем обнаглели – кур с фермы среди бела дня таскают. Вот мы их и пугнули. Правда, ребята?
– Ладно уж! – Саня похлопал меня по плечу. – Не оправдывайся, в следующий раз отыграетесь!
Мне стало стыдно.
Подошел Василий Архипович. Он тяжело дышал и хромал больше обычного. Тяжело ему на лыжах.
– Докладывайте выполнение задания, – сказал он.
Я доложил, не утаил и причины нашего позорного поражения.
Василий Архипович подвел итоги:
– Группа Сани Петрова выполнила задание, группа Вани Кириллова показала плохой пример, загляделась на лисиц и забыла про задание. Ребята, военная игра не только игра. Вы ведь будущие солдаты и не должны забывать об этом. Понятно?
– Понятно, Вас… товарищ военрук, – ответил я. Щеки у меня горели от стыда.
– Ну, а теперь в школу! – Василий Архипович махнул здоровой рукой и тяжело поехал вперед.
7
Как-то вечером за ужином мама сказала:
– Вот ты, Ванек, все просишь хлеба, а где его взять – мука давно кончилась. Я думаю, может, нам корову продать. Покупателя я уже нашла из соседней деревни. Двадцать пять пудов ржи дают. Как, сынки? Что будем делать?
– Мам, а пахтанье? – заныл я. Федя молчал, но я по лицу видел, что ему тоже жаль корову. Еще бы! Буренка у нас такая умная, послушная. Мама ее совсем маленькой телочкой взяла. Мы с Федей пасли ее, играли с ней, кормили с руки. И вот теперь не будет у нас Буренки…
Нам даже есть расхотелось, а мама уже все решила и не хочет замечать, как мы оба расстроились.
– Пахтанье я в пахталке заморозила, Ванек, – говорит она. – До весны хватит.
– А весной новую корову купим и на Буренку обменяем, да? – спрашиваю с надеждой.
– Нет, сынок, корову мы теперь уж до конца войны не купим. Не на что. Зато с хлебом будем.
– А когда война кончится? – задаю себе вопрос и сам же отвечаю: – Папа пишет, что гонят фашистов на запад, значит, скоро и война кончится.
Мама с Федей смеются – кому же не хочется, чтобы скорей кончилась война!
Когда мама вышла, Федя сказал мне почему-то шепотом:
– Слово держать сумеешь?
Я кивнул, ответил тоже шепотом:
– Ага.
– Смотри, что у меня есть, только никому – даже маме.
– Честное пионерское!
Брат берет свою сумку, не спеша расстегивает ее и достает – я даже зажмурился от сладкого ужаса – пистолет. Сначала я решил, что он самый что ни на есть настоящий, но потом-то уже разглядел, что это самодельный. Ручка у него деревянная, а ствол, курок, затвор – из настоящего железа.
– A-а, а он стреляет? – спрашиваю.
– Ого! – Федя самодовольно улыбается. – Еще как!
– Дай подержать, Федька!
– Ты что, сдурел! Я его никому не даю. Он заряжен.
– Ну хоть стрельни тогда!
– Дурачок! Вся деревня сбежится…
– А мы в лес пойдем и там…
– Посмотрим, вот когда за дровами поедем, может быть, и попробую.
– Давай скорей поедем! – умоляю я.
Ох, как мне хочется пострелять из такого пистолета! Весь день он у меня из головы не выходит. Решаю задачи, а у самого пистолет на уме.
– Ты что, Ванек, задумался? Буренку жалеешь? – спрашивает мама.
Знала бы, о чем я задумался, о чем жалею, за вихры оттаскала. На душе у меня нехорошо, совестно перед мамой, но с другой стороны – слово дал брату молчать.
А мама утешает меня:
– Зато хлебушек каждый день будем есть. Теплый, вкусный. Молочка не будет – пахтанья хватит. Как-нибудь продержимся до весны.
Слушаю маму вполуха, а сам думаю: куда же Федька пистолет прячет? Не носит же он его в школу. Надо будет поискать в избе. Хоть в руках подержу, рассмотрю поближе, поиграю…
Утром бежим в школу, мне совсем рядом, а Федьке полтора километра топать.
На уроке Аркадий Ефимович объясняет имена существительные на чувашском языке.
– Ваня Кириллов, ну-ка назови нам нарицательные имена существительные.
Я вскакиваю и выпаливаю одним духом:
– Пистолет.
– Молодец. Еще, – кивает учитель.
Молчу, потом опять:
– Пистолет.
Учитель поднимает голову.
– Правильно, а еще, еще…
Я с ужасом бормочу:
– Пистолет.
Ребята фыркают. Аркадий Ефимович внимательно смотрит на меня, слишком уж внимательно.
– Ну что ты заладил, как попугай. Леша, помоги Кириллову.
Лешка вскочил и затарахтел, а я так и простоял столбом до самого звонка.
Большая перемена! Выбегаем во двор, даже не успев одеться. На улице потеплело, солнышко пригревает. Перебрасываемся снежками и обратно в школу, в столовую. Столовая у нас в пустом седьмом классе – здесь нас бесплатно кормят обедами. На двоих выдают полную миску пахучего густого горохового супа. Без хлеба. В школе нет хлеба, в колхозе тоже.
– У нас скоро будет хлеб. Я принесу, – говорю Илюшке.
– Откуда? – недоумевает тот.
– Мы корову меняем на хлеб, двадцать пять пудов ржи получим, – объясняю взрослым голосом, как мама.
– Вон оно что! – понимающе кивает Илюшка тоже как взрослый мужик.
Следующий урок – военное дело. Берем свои «ружья»-палки и встаем на лыжи.
Лыжи сегодня не скользят, двигаются с трудом.
– Эй вы, лисицы! – кричит Санька Петров. – Сегодня мы вам опять покажем!
Вот хвастун! У меня руки чешутся намять ему бока, но побаиваюсь военрука. Он тут, рядом, командует:
– Прекратить разговоры. Пора бы знать, что такое военная дисциплина. Будущие солдаты, а ведете себя как первоклассники.
Я показываю кулак Саньке из-за спины учителя, он ухмыляется и корчит мне зверскую рожу – мы, мол, вам зададим.
Кое-как, проваливаясь в мокром снегу, добираемся до леса.
Василий Архипович дает задание обеим группам.
На этот раз прячемся мы – отряд Саньки должен нас обнаружить и окружить.
Двинулись к Красному оврагу.
Санька кричит нам вдогонку что-то обидное, мы в долгу не остаемся. Василий Архипович делает вид, что не слышит нашей перебранки.
У Красного оврага останавливаемся и разрабатываем план военных действий. В маленькой рощице на горке оставляем наблюдателя. Илюшка вынимает карту местности, у нас все как взаправду. Соображаем, с какой стороны может появиться вражеский отряд, где ему удобнее напасть на нас, с какой стороны.
Спорим, совещаемся. Наконец план одобрен всеми. Раскалываемся на три группы и занимаем свои места.
Снег рыхлый, влажный, зарываемся в нем так, что нас почти не видно с дороги.
Сидим, наблюдаем, ждем.
В лесу тихо, спокойно. Настоящие сугробы лежат на еловых ветвях. Снег сегодня серовато-голубой, пористый, тяжелый. Интересно, где теперь ночуют тетерева? Самые лютые морозы уже позади, скоро прилетят птицы, в лесу станет шумно, весело. Первыми, как всегда, появятся скворцы, попозже жаворонки. Вылезет из своих норок и гнездышек всякая лесная мелюзга, и заговорит лес на разные голоса: весна! весна!
– Идут! – шепчет Илюшка из своего «секрета».
– С какой стороны?
– Сзади хотят нас обойти.
Как мы и думали. А ну, айда, вперед! Разбегаемся. У самого спуска в овраг остается один Лешка. Лешка у нас автоматчик. Сам себе соорудил автомат. На валик с зубьями прицепил пластинку. Крутишь валик автомат трещит так, что уши затыкай. Небось от настоящего столько шума не бывает!
Едва мы скрылись, Санькин отряд появился у оврага, Лешка затрещал своим автоматом на весь лес.
«Враги» бросились вперед, закричали:
– Ура!
А Лешка трещит и тоже кричит на разные голоса: такая у него военная хитрость.
Группа Саньки попалась на нее и обратно ринулась, а тут мы выскочили на дорогу и вопим:
– Ура, ура, ура!
– Тра-та-та-та-та! – трещит Лешка.
Одуревший от треска и крика Санька затоптался на месте. В общем, оказался в ловушке. Не хвались раньше времени, не задирай нос!
Василий Архипович похвалил нас:
– Теперь вы молодцы, ловко провели врага!
– Хитрые, как лисицы! – подмигнул я Саньке.
8
Идет четвертое военное лето. Как долго мы не видели папу, да и не мы одни, пока еще никто из фронтовиков не возвратился домой. Кто ранен, кто воюет, есть и пропавшие без вести. Пришли в деревню и похоронки. Но в последнее время больше писем от раненых, из госпиталей, чем сообщений о погибших. Гонят, гонят наши фашистов, уж теперь-то скоро конец. А значит, и папа снова будет с нами!
Я лежу на спине, надо мной высокое ночное небо. Бегут по небу темные тучи, то и дело закрывают светлый серпик луны, и кажется, что это луна скользит по небу, спешит, торопится.
– Федь, смотри-ка, луна бежит, – говорю я.
– Это только кажется, – бормочет брат. – Не мешай спать. – Голос у него какой-то странный и совсем не сонный.
– Федь, а ты тоже не спишь? Слышишь, как перепел поет? – Я приподнимаюсь осторожно, но снопы, на которых мы устроились, громко хрустят. Ночь теплая, тихая. Ну, как тут уснешь! И перепел вовсю заливается.
– Пет-пел-дек! Пет-пел-дек! Ему тоже не спится. Интересно, о чем он поет?
Накрываю голову пиджаком, крепко зажмуриваю глаза, но сон не идет.
– Федь, а Федь, давай о папе говорить! – прошу я. – Говорят, наши здорово шпарят немчуру! И папа, наверное, поддает им из автомата.
Брат – ни звука. А я ведь знаю, что не спит, только делает вид, чтобы я угомонился.
– Федь! – пристаю опять. – Как разобьем фашистов, так и кончится война?
– Спи, тебе говорят.
– Я папу хочу скорей увидеть. А ты?
Брат с головой накрывается полой армяка. Я крепко прижимаюсь к его спине, закрываю глаза. Перепел наконец-то замолчал. Уже сквозь сон слышу, как Федя вздыхает тяжело, и кажется, нет, мне это, конечно, только кажется, хлюпает носом, спина его вздрагивает.
– Федь, ты что? – вскакиваю я, хочу заглянуть ему в лицо. Сна как не бывало. Что это с ним случилось? Может, заболел? Но тут раздается недовольный шепот тетки Христины:
– Перестань, Ванек. Сам не спишь и нам мешаешь.
Я укладываюсь на свое место. Прижимаюсь к брату, прислушиваюсь к его дыханию. Кажется, спит. Напрасно я встревожился. Чего только ночью не почудится!
Нас здесь много, почти вся бригада. Правда, почти все взрослые ушли домой, в деревню, а мы, ребята, ночуем в поле, на снопах. Тетя Христина тоже осталась с нами – живет она одна, домашних дел у нее мало. Оказывается, и она не спит. Наверное, лежит и о дяде Миколе думает. А дядя Микола пишет часто и даже Пашке прислал письмо, беспокоится, как он со стадом управляется. И не зря беспокоится. Всем сейчас плохо, и коровам тоже. Худющие стали, кожа да кости, и молока мало дают. Этой зимой они совсем обессилели – некоторые даже не могли сами подняться. Правда, летом получше. Пашка очень старается, недавно запустил их на луга. Ну, потом ему за это в правлении влетело. Председатель очень ругался: летом все скормим, чем зимой будем кормить!
Пашка хотел даже дяде Миколе написать, пожаловаться, но мы его отговорили – зачем расстраивать фронтовика!
Я сам не заметил, как уснул, а разбудил меня голос тети Христины:
– А ну, работники, вставайте. Не ленитесь!
Вскочили, как встрепанные, и в овраг, к ручейку. Вода в ручейке холодная и прозрачная. Ополоснешь лицо – весь сон убежит. Брызгаемся, хохочем. Лешке, как всегда, попадает больше всех, промок с головы до пяток. Обратно идем по колючей стерне, но никто не хнычет, привыкли. Ступни ног затвердели за лето – еще бы! Только босиком и бегаем.
Все разбрелись по полю – на каждую семью отмерили участки. Заискрились на солнышке серпы. Отовсюду слышишь – вжик-вжик, вжик-вжик. Это острый серп срезает спелую рожь. Мама жнет левой рукой. Да так красиво, быстро – залюбуешься. А еще левша! Никто за ней не успевает, даже ловкая тетя Христина. А уж мы с братом и подавно. Я все поглядываю на дорогу – пора бы уж и тете Анне приехать! Она привозит нам завтрак. Интересно, чем сегодня накормит?
– Едет, едет! – кричит кто-то с соседнего участка.
Втыкаем серпы в снопы, хватаем миски и бегом к повозке. Я впереди, за мной Федор. Мы работаем ближе всех к дороге. Окружили повозку.
– Тетя, чем кормить будешь?
– Суп с галушками! Галушки большие – сыты будете!
– Ура! Суп с галушками! – кричат ребята и подставляют свои миски.
Тетя Анна сняла крышку с большого чана, размешала половником суп и стала разливать. Каждый получил по одной галушке, а галушка – с мамину ладонь!
– Ешьте, ешьте, ребята, на работе все равны, – ласково улыбается тетя Анна.
Галушки из гороховой муки кажутся необыкновенно вкусными. Так бы и ел только их. Мама говорит, что это от свежего воздуха и еще потому, что хорошо поработали. Ко мне подошел бригадир:
– Ванек, сегодня опять будем полевую газету делать. Ты нарисуй, а я подпишу. Получишь за это полтрудодня.
– Нарисуй, сынок, лодырей, чтоб от стыда сгорели, – засмеялась бабка Мархва.
Прошлый раз ей газета уж очень понравилась. Я нарисовал тетку Василису – высокие желтые колосья вели ее под руку в правление. Конечно, это я не сам придумал, а бригадир подсказал. Вышло смешно и очень похоже. Все очень смеялись, даже сама тетя Василиса.
Я отдал серп брату и шагаю за бригадиром по полю. Бригадир смотрит, кто как работает.
Санька кричит мне со своего участка:
– Попробуй только меня нарисовать!
Бригадир смеется:
– Зря не нарисуем. У вас как будто все в порядке.
Подходим к самому дальнему участку. Здесь работает Таня с матерью. Таня – наша соседка, кроме того, мы с ней учимся в одном классе. Откровенно говоря, она мне давно нравится, еще с прошлого года. Может, поэтому я не смотрю на нее, не разговариваю с ней, только всякий раз краснею, как последний дурак.
А недавно случилось вот что: мы с Таней начали переписываться. Не по почте, а просто при встрече суем письма друг другу в карман. Я пишу коротко – что сделал за день, с кем и из-за чего подрался, конечно, привираю немножко, словом, стараюсь показаться героем. Ну и, разумеется, намекаю на свои чувства, но не очень, а то еще нос задерет. Девчонки такие!
Таня в ответ мне пишет о себе, про свои горести и радости.
В школе мы не смотрим друг на друга, никто и не догадывается о переписке – это наша тайна.
…Я хочу скорее проскочить мимо тети Лизук – Таниной матери, но бригадир, как назло, вступает с ней в перепалку.
– Лизук, у тебя совесть есть? Срезаешь колосья. Высоко берешь. Зима все сожрет, соломы много понадобится! Каждое зерно – хлеб. Хлеб нужен фронту. И убрать его надо без потерь.
С тетей Лизук лучше не связываться: такого наговорит. Пока она препиралась с бригадиром, я скорей в другую сторону повернул. В спешке наступил на чернобыльник, разбередил ногу до крови. Хорошо, что мама сунула мне в карман растертый чертов палец. Посыпал на рану, кровь сразу перестала течь.
– Ты почему же убежал? – догоняет меня бригадир. – Вот кого рисовать надо. Изобрази дочку с матерью, как за ними колосья бегут. Ну, и баба эта Лизук! Ленивая, нерадивая, а уж языкастая!
– Не буду я рисовать, – говорю. Бригадир от удивления споткнулся:
– Это почему же? Что за капризы?
– Не буду, и все.
– Объясни, Ванек, почему? Ты же никогда не отказывался, – недоумевает бригадир.
– Ногу зашиб, болит очень, – бормочу я и, прихрамывая, иду через все поле к своему участку.
К вечеру появилась газета. Бригадир сам нарисовал нерадивых колхозниц. Впереди всех красовалась Танина мать. Газета ходила по рукам. Все хохотали, а «потерпевшие» стыдливо отводили глаза в сторону.
Тетя Лизук бушевала.
– Это что же делается? – потрясала она кулаками. – Мой тоже на войне, зачем смеетесь над солдаткой? Это ты все, шпингалет! Вот я тебе покажу картинки рисовать!
– Тетя Лизук, честное слово, не я, – говорю чуть не плача.
– Ты, ты, больше некому! Знать тебя не хочу!
– Я сам рисовал, – вмешивается бригадир. – Ванек трусом оказался. Вот уж не думал!
Я позорно прячусь за копну, бригадир прав – струсил я, Тани побоялся.
– Дед Макар идет! – крикнул кто-то.
Дед Макар – деревенский почтальон. Сейчас он самый главный, самый долгожданный гость в каждой избе. Ребята окружают деда Макара.
– Нам есть?
– А нам?
– А нам?
– А нам?
Дед Макар медленно – так кажется всем – вынимает из своей большой кожаной сумки солдатские треугольники.
– Это не вам, а это…
Сегодня счастливыми оказались бабка Мархва, Санька Петров и тетя Лизук. Остальные смотрят на них с затаенной завистью. Мама тихо говорит:
– Опять нет… Что же это такое?
Федя тоже тут. Он почти насильно уводит маму.
Дед Макар как-то странно посмотрел на брата и на меня. Может, мне просто показалось? А вдруг папа ранен? Лежит в госпитале, а дед Макар с Федей скрывают это от мамы?
Мы снова принимаемся за работу.
– Федь, а ты правда ничего не знаешь про папу? – шепчу я брату.
Федя вздрагивает и молчит.
– Федь, – пристаю, – скажи мне, Федь. Может, папе в госпиталь посылку надо послать, чтобы скорей поправился.
Брат сосредоточенно работает, словно не слышит моих слов.
От Длинного поля до деревни четыре километра. С дальних полей урожай убрали раньше. Остались поля вокруг леса и деревни. И все, кто может держать серп, – поле.
С полудня стал накрапывать дождик, к вечеру расшумелся вовсю. Бежим домой, сегодня рабочий день короткий, можно поиграть вволю. В избе хорошо, прохладно. Мама принесла от соседки пахтанье, мы с Федей стоим у окна. Сейчас все сядем за стол ужинать. Неожиданно брат говорит хриплым, чужим голосом:
– Мама, а если папа не вернется с фронта?
Мама застывает у порога.
– Что ты, сынок? Почему не вернется?
– Погиб папа, – шепчут Федькины побелевшие губы.
Горшок выскальзывает из рук мамы. Пахтанье разлилось по полу. А мы застыли, не в силах поверить тому, что сказал Федя.
Мама хочет что-то выговорить, спросить, но не выдерживает и бросается к брату.
– Я так и знала, так и знала, – кричит она и плачет во весь голос.
Федя вытаскивает из кармана смятую бумагу и молча протягивает маме.
– Позавчера еще пришло…
Мама и Федя стоят обнявшись и оба плачут. Я изо всех сил стараюсь перекричать их.
– Мама! Послушай! Но ведь яйцо-то не разбилось!
Я прижимаюсь к ним, самым моим близким и любимым, и кричу, кричу про яйцо, которое не разбилось.
Федор ласково разнимает мамины руки.
– Хватит, поплакали. Надо дело делать. Я пойду в военкомат, буду мстить фашистам за отца.
Мама заплакала еще горше:
– Что же ты говоришь, сынок! И тебя убьют. Ах, что же еще будет, что будет? Как все выдержать?!
…Соседи жалеют нас, но, сидя наедине с горем, сыт не будешь – надо идти в поле.
Работаем молча, мама осунулась, но держится из последних сил, не плачет, только вздыхает тяжело.
На третий день утром Федор говорит твердо, спокойно:
– Мама, я иду в военкомат.
– Но твои года еще не вышли, – неуверенно возражает мама. – Куда спешишь?
– На фронт, мстить за папу. – Федор непреклонен, и это понимаю даже я.
…Брат уходит в тот же день. В Канаш – в военкомат.
9
Наконец-то пришло письмо от Феди. Мама не находит себе места, пока я распечатываю его.
Письмо длинное, на двух страницах.
Мама садится у окна, опустив руки на колени, на глазах – слезы.
– Мама! – говорю с упреком. – Мама, не надо.
Письмо читаю сам – мама читает плохо, да и почерк у Федора мелкий, неразборчивый.
«Здравствуйте, дорогие мои мама и Ванек!» – начинаю я торжественно, но на второй фразе голос мой начинает дрожать, того гляди расплачусь от радости и волнения. И еще от гордости, что у меня такой брат! Настойчивый, смелый. В военкомате, как и думала мама, ему отказали. Сказали, чтобы приходил через год. Федя настаивал, доказывал, говорил, что хочет отомстить за отца. Но военком был непреклонен, советовал в деревне организовать отряд, учить молодежь военным играм.
Федор заявил: «Играть в войну – дело младшего брата, а мое – сражаться на фронте, воюют же мои ровесники в партизанских отрядах».
В общем, ушел брат из военкомата ни с чем и в тот же день укатил на товарном в Москву!
Ай да Федька, вот счастливый, Москву увидел!
Мама даже плакать перестала! Сама удивляется, что у нее такой сын.
– Виданное ли это дело, в Москву один! Пропадет, ой пропадет!
– Не бойся! Не пропал! – говорю и дальше читаю.
А дальше было так. На каждой станции вагоны солдаты проверяли, многих ссаживали, а Федька удачно спрятался – его не нашли. Так он благополучно добрался до Москвы. Объездил все вокзалы – искал поезда, которые идут на фронт. Но там к ним близко никого не подпускали. Народу кругом – тьма-тьмущая. Сутолока, беготня. Вышел Федя на улицу, прижался к стене и не знает, что же дальше-то делать. Тут к нему паренек подошел, таких же лет примерно, и одет так же, и мешок за плечами такой же, только у Феди – лапти, а паренек в ботинках. Разговорились.
– Откуда ты?
– Из Чувашии. А ты?
– Я с Украины, а где Чувашия – не знаю.
Оказалось, Петро, так звали паренька, сирота – родителей у него убили фашисты, а самого его спасли наши солдаты. Устроили в детдом и отправили за Урал в эвакуацию, но Петро по дороге сбежал и оказался в Москве. Тоже хочет на фронт или к партизанам.
Так у Феди появился друг, а вдвоем всегда легче. Как-то исхитрились они и влезли в поезд, но на первой же станции их задержали. Вместо фронта попали они в военное училище.
«Здесь у нас есть винтовки, и автоматы, и даже пулеметы. Учимся стрелять, стараемся.
Одели нас, как солдат, и кормят хорошо. Будьте здоровы. За меня не беспокойтесь. С приветом, ваш сын и брат Федор».
– Мама! А ты плакала! Видишь, как все хорошо получилось.
– Дурачок! Жил бы дома, ан нет, – причитает мама, а мне уже досадно – почему в нашей школе нет ни автомата, ни пулемета? Одна винтовка и то старенькая-престаренькая…
– Прочти-ка, сынок, еще раз, о каком ахтумате и пелемете он пишет? – просит мама.
С радостью перечитываю письмо.
– Все стреляют, как бы в него не попали, – вздыхает мама.
Я смеюсь.
– Не попадут! Мы в школе тоже стреляли в мишень. Только никак я не попаду в десятку. Эх, автомат бы!..
– Вот я сейчас покажу тебе ахтумат! – ругается мама. – И этот туда же, за старшим лезет!
Мама совсем расстроилась и с досады меня за вихры дернула – это она умеет. Теперь мне частенько от нее достается.
– Мама! А когда мы Феде ответ напишем?
– Ты не забыл, что тебе сегодня на току дежурить? Вернешься, и напишем.
Выбегаю из дома. Ток – рядом с деревней. Хромой дядя Петр уже ждет меня.
– Опаздываешь, Ванек, не годится, – ворчит он. – Дежуришь до полуночи, а потом и я подойду.
– Не впервой!
– Не впервой – это верно, а вот к своим обязанностям надо относиться серьезно.
– Ладно, ладно, дядя Петр. Не беспокойся, никакой скотины не подпущу.
– Скотина на четырех ногах, а ты за двуногой приглядывай! Помни, охранять ток – все равно что охранять границу. – Дядя Петр заковылял к воротам.
Очень ответственный человек наш дядя Петр. И днем и ночью ток сторожит, когда только спать и есть успевает! Я у него в помощниках уже второй месяц. Трудно поначалу мне приходилось: сон одолевал. Дядя Петр то фуражку спрячет, то лапти развяжет. Просыпаюсь – он надо мной потешается.
– Боюсь, как бы моего помощника не украли. Двойная забота у меня теперь – и зерно сторожить, и за тобой присматривать!
Ему смех, а мне – стыд. Научил-таки уму-разуму. Привык я к своим обязанностям охранника. Теперь я стал выслеживать, когда дядя Петр задремлет на посту. Хотел отплатить за свои обиды. Посмотрим, будет ли он смеяться, если я у него палку спрячу.
Как-то пришел на дежурство пораньше. Вижу, сидит мой начальник под навесом и носом клюет. Шапка мохнатая – он ее и зимой и летом носит – того и гляди с головы упадет. Обрадовался я, затаился и жду, что дальше будет.
Сейчас, думаю, теперь уж я над тобой подшучу! Потихоньку подкрадываюсь к нему, вот уже и руку к палке протянул. Сделал один шаг – солома чуть-чуть зашуршала под ногами, я затаил дыхание, немножко даже испугался – дядя Петр человек горячий. Огреет спросонья палкой по спине!
– Кто там, выходи! – кричит дядя Петр бодро и весело, как будто и не он только что клевал носом.
– Это я, Ванек, – говорю, а сам готов лопнуть от досады.
Так я его до сих пор и не застал врасплох, но надежды не теряю на счастливый случай.
…Дядя Петр ушел, а я остался один. Мысли разные полезли в голову. Папу вспомнил, Федю… Достал из кармана письмо, перечитал, подумал почему-то: что же он о пистолете своем ничего не пишет, может, потерял в дороге? Лучше бы мне оставил, пригодился бы сейчас.
«Му-у», – послышалось из-за скирды. Я бросился туда. Опять теленок с овцами пожаловал. Кричу, машу палкой, гоню к околице деревни. Овцы недовольно блеют, наверное, ругают глупого теленка. Загоняю скотину в деревню, да разве за ней усмотришь? Ворота свалились, столбы сгнили: некому ремонтировать.
Возвращаюсь обратно. Прохаживаюсь по току — все ли в порядке? Под навесом в углу полные мешки зерна. Пятьдесят штук. На другом конце большая куча обмолоченного зерна. Его никто не взвешивал. Охраннику верят, не сдают ему по пудам. Вот, оказывается, какое богатство мне доверяют! Меня распирает законная гордость, с трудом удерживаюсь, чтобы не запеть.
Интересно, можно сторожам петь? Воров пугать? Надо будет спросить у дяди Петра. Нет, пожалуй, не стоит, засмеет.
Солнце скрывается за дальним лесом, и незаметно темнеет. От вечерней прохлады зябко. Надеваю фуфайку и фуражку. Зарядка тоже не помешает. Прыгаю, бегаю, потом усаживаюсь на мешок. Глаза начинают слипаться. Я снова делаю разминку, и так несколько раз. Хожу вокруг тока, насвистываю. За деревней еще один ток. Второй бригады. Его тоже до полуночи охраняют мальчишки. Оттуда доносится звонкий голос Лешки, поет песню. Солдатскую. Хорошо поет. А я не решился…
Луна взошла, сразу стало светлее и веселее. Теперь нас уже двое – я и моя тень. Медленно прохаживаюсь. Опять вспомнил папу. Он погиб у города Белгорода. Неужели правда? Нет, не мог погибнуть мой папа. Это какая-то ошибка. И мама и Федя в душе надеются, что похоронка – ошибка.
Опять устраиваюсь на мешке. Разве утащишь эти снопы со скирды. Мешки – другое дело. За ними надо смотреть в оба, как говорит дядя Петр. В случае чего надо поднимать народ, всю деревню. В углу висит отрезок рельса. По утрам он созывает народ на работу. В другое время – оповещает о беде, пожаре например.
Глаза опять начинают слипаться, а вставать не хочется – набегался вокруг тока. Вдруг вижу, а может, это мне кажется, у навеса скользнула какая-то тень. Остановилась. Пропала. Нет, скорее всего, присела у кучи зерна.
Сна как не бывало. Сердце замолотило, а ноги одеревенели от страха. Ну, и сторож! Крикнуть – и к рельсу, заколотить палкой изо всех сил – вот что надо делать, а не стоять, раскрыв рот.
«А может, это кто-нибудь из правления меня проверяет», – успокаиваю себя. Дежурные всю ночь ходят по фермам и токам.
– Кто там? – спрашиваю хриплым шепотом.
В ответ – молчание.
– Кто там? – смелею. – Отвечай!
Молчание. Может, это собака забежала?
Я медленно подхожу. Ближе, еще ближе. Спиной ко мне сидит женщина. Наклонилась и что-то делает с зерном. Набирает в мешок.
– Брось мешок! – кричу во весь голос.
– Тише, Ванек, тише! Ну, что расшумелся? Никто не заметит, вон тут сколько! – с мольбой в голосе шепчет женщина.
Голос знакомый. Тетя Лизук, Танина мать.
– Брось мешок! – говорю и сам пугаюсь своего дрожащего, испуганного голоса.
– Ванек, не говори никому, узнают все – стыда не оберешься! Я вот только один мешочек – половину твоей матери.
– Да разве мама возьмет краденое зерно! Положите на место. Я сейчас тревогу подниму!
Тетя Лизук что-то бормочет, но не поднимается с места.
Я бегу к рельсу. Хватаю палку, но не успеваю – тетя Лизук кидается ко мне, вырывает палку и изо всей силы бьет меня по спине.
Злость, обида, боль охватывают меня. Я воплю что есть мочи. Неожиданно совсем рядом голоса.
– Что случилось, Ванек? – Из темноты на лунной дорожке появились дядя Петр и Костя – секретарь комсомольской организации.
– Ну, что здесь происходило? А ты, Лизук, как сюда попала?
Я рассказал всю правду. Тетя Лизук только ворчала, но отвертеться не могла – главная улика, мешок, лежал на виду. Ее отпустили домой – сказали, что завтра утром правление с ней разберется.
Дядя Петр остался дежурить, а мы с Костей отправились в деревню.
Больше мы с Таней не переписывались.
10
Опять зима, последняя военная зима – суровая, снежная, с холодными ветрами, высокими сугробами. Посмотришь с горки на деревню – одни трубы торчат.
Скучно одному в нетопленной избе. Бегу к Илюшке. Они тоже остались вдвоем с матерью, как и мы. Отец и оба брата на войне. В прошлом году еще пришли похоронки на братьев, но ни мать, ни Илюшка не хотят им верить. Надеются, что это ошибка. Я тоже жду отца и никак не могу представить, что его нет.
Илюшка сидит за столом и при свете тусклой мигалки решает задачи. Он в шубе, валенках. Мать возится у печки – не горят сырые поленья, хоть плачь!
Илюшка рад моему приходу.
– Что, опять с ответом не сходится? – заглядываю я и присаживаюсь к столу. – Давай вместе!
Я легко решаю задачи и люблю с ними возиться. Уроки на завтра у меня уже приготовлены, поэтому с ходу объясняю Илюшке решение. Он старательно слушает, наморщив лоб, раз десять просит повторить и начинает быстро писать на полях старой книги.
– Не спеши, опять неправильно, – говорю я и опять объясняю все с самого начала. Не дается ему арифметика!
– Вот теперь понял! – радуется он и хватается за ручку.
– Опять не так.
– Как не так? Сам ты ничего не понимаешь! Поэтому и объясняешь плохо.
– Не спорь, Илюш, лучше послушай еще раз, – вмешивается мать. Печка наконец растопилась, черный едкий дым ест глаза. Скоро в избе становится тепло.
– Ну, смотри, давай я решу. – Хватаю старую книгу и быстро-быстро начинаю писать условия задачи. Чистой бумаги у нас уже давно нет. Пользуемся старыми книгами, ненужными учебниками. Чернила делаем из дубовых шишек. Коричневого цвета.
– Пожалуйста, – протягиваю Илюшке исписанный листок. – Читай вслух и рассуждай, а я тебя поправлять буду.
Наконец с задачей покончено. Теперь и погулять можно.
– Долго не задерживайтесь! – кричит нам вслед Илюшкина мать.
На дворе метель, ветер толкает в спину. Натягиваем свои малахаи на самые глаза и бежим на Верхнюю улицу.
Наша изба темная – значит, мама еще не вернулась с работы. Рядом, в Таниных окнах светится огонек. Илюшка по сугробам подбирается к самому дому. Зовет меня. Но я не иду.
– Только мать дома, – говорит он, возвратившись.
– Не связывайся с ними. Ты же знаешь, какие они.
– Подумаешь! – смеется Илюшка. – Ты про ту шутку на току вспомнил.
– Это не шутка, – возмущаюсь я, – а самое настоящее воровство.
– Ну, ладно, ладно, пускай по-твоему, – быстро соглашается друг. – Айда к тетке Мархве, на посиделки!
Бежим дальше. На ходу теплее. Илюшка далеко обогнал меня – несется, как паровоз. Бегать – не задачки решать.
– Эй, подожди, – кричу я, но встречный ветер относит мои слова назад и Илюшка их не слышит. Как тогда на озере.
Неделю назад Илюшка вот так же, во всю прыть, хотел перебраться на другой берег озера. Лед трещит, ломается, мы кричим ему: «Остановись, провалишься!» Куда там! Ничего Илюшка не слышит, и вдруг смотрим – пропал, ушел под лед, только шапка торчит из воды. Всей гурьбой бросились к нему на помощь, но не успели добежать – Илюшка сам выскочил из воды, встряхнулся, как собачонка, и помчался в деревню. Отлежался на горячей печке и утром в школу пришел как ни в чем не бывало.
А вот и дом бабки Мархвы. Илюшка уже ждет меня у крыльца. Не спеша отряхиваем снег с валенок, малахаев, без стука открываем двери и входим.
Изба полна народу. Светло, тепло. Девушки с рукодельем расселись вдоль стен.
– А, женихи пожаловали! – усмехается бабка Мархва. – Проходите, не стесняйтесь!
Девушки вздыхают. Тетя Марья говорит:
– Ах, господи, с кем ведь остались…
Илюшка осмелел:
– Вася тебе писал, что придет с войны и поженитесь.
– А ты-то откуда знаешь? – удивляется тетя Марья. И краснеет.
И правда, откуда?
Илюшка объясняет как ни в чем не бывало:
– Письмо вчера в дверях торчало, я и прочел.
Все смеются: вот озорник! Тетя Марья не знает, куда глаза деть от стыда, а тетя Дарья говорит рассудительно:
– И смущаться нечего. Конечно, каждый солдат мечтает вернуться к своей невесте. Разве не так, девушки? Лишь бы война поскорей кончилась – свадьбы сыграем!
Девушки потупились, жужжат веретена в их ловких руках, кто-то неуверенно затянул песню, ее подхватили. Теперь уже поют все, даже бабка Мархва. Только мы без дела, слушаем песню да смотрим, как ладно работают девушки – одни прядут, другие вяжут или вышивают.
С колен тети Марьи упал клубок и покатился за печку.
– Ну-ка, Илюш! Подними клубок, хоть какая-нибудь от тебя польза! – смеется тетя Марья.
Илюшке лень нагибаться, и он толкает меня в бок.
Я поднимаю клубок и начинаю наматывать нитки.
– Вот Ванек – молодец, – говорят девушки, – а ты лентяй и бессовестный человек – чужие письма читаешь. Настругай хоть лучины!
Эту работу Илюша любит и всегда делает ее с удовольствием. Липовая доска заранее готова, рубанок рядом.
Вжик-вжик – и вот уже тетя Дарья собирает нежные липовые стружки в кастрюлю и зажигает их. Потом накрывает чашку платком. Бабка Мархва убавляет свет в лампе. Девушки окружают кастрюлю. Чтобы лучше видеть, мы с Илюшкой забираемся на табуретки. Глаз не сводим с кастрюли. Угли медленно потухают, их мерцание отражается на платке.
– Ой, ой, самолет летит! – говорят девушки.
– Нет, пожалуй, танки. Из лесу вышли двое – кто же это? – говорит тетя Дарья.
Илюшка поясняет:
– Это мы с Ваньком.
– Брысь, озорники! – кричит тетя Дарья.
– Очень вы нам нужны! – Мы хохочем и спрыгиваем с табуреток.
Девушки еще долго смотрят в кастрюлю, пока не потухнут угли. Интересно смотреть на эту игру. На посиделках девушки ее всегда заводят. Хотят увидеть своих женихов, погадать о будущем. А что им еще делать длинными зимними вечерами? Клуб закрыт с начала войны – топить нечем.
…Дверь широко распахивается – в избу заходит Костя – комсомольский секретарь. В руках у него газета, улыбка во весь рот.
– Ура! Девчата, хорошие вести вам принес. На всех фронтах гонят в шею фашистов! Слушайте последнюю сводку Совинформбюро.
Костя, не раздеваясь, усаживается за стол и читает сводку.
Слушаем его, затаив дыхание. За газетными строками видится каждому родное, близкое лицо – отца, брата, мужа, жениха.
Я, конечно, вспоминаю папу и Федю. Не могу поверить в папину гибель и всегда представляю его только живым – веселым, шумным. Вот мы с ним купаемся в озере, и папа учит меня плавать. Вот на зеленой полянке мы втроем – папа, я и Федя разжигаем костерок, печем картошку, грибы на прутиках.
– Пока все, – говорит Костя и откладывает газету в сторону. – Но у меня еще есть интересная новость, – он лукаво улыбается. – Завтра к нам приезжают артисты. Посмотрим спектакль. О войне.
Костя ушел, а девушки стали решать, как протопить клуб, где достать печку, дрова. Разговоров в тот вечер только и было, что о завтрашнем спектакле.
На следующий день едва дожидаемся конца уроков. Мчимся в клуб. Девчонки приводят в порядок маленькую сцену, протирают скамейки, подметают пол. Мальчишки чистят окна, укрепляют плакаты на стенах.
Расходимся в сумерки и сталкиваемся с Костей. У крыльца стоит полный воз хвороста – это Костя привез его из леса.
– Ребята! Как поужинаете, сразу же приходите в клуб. Будете ветви рубить, а я с фермы железную печку привезу!
Вот молодец наш Костя! Недаром взрослые говорят, что он толковый и дельный парень! И как он все успевает! Целыми днями носится с бригадиром по участкам, а вечерами забегает на посиделки – газеты читает, рассказывает обо всем, что слышал по радио. Ведь приемник-то у нас только в сельском Совете, а в клуб народ не ходит, холодно, топить нечем, печку давно уже разобрали и кирпичи увезли на ферму.
…Хворост весело потрескивает в железной печурке, постреливает золотыми искорками, в клубе тепло и уютно, совсем как до войны.
Неугомонный Илюшка то и дело выбегает на крыльцо – ждет артистов, а их все нет и нет.
Наконец слышим Илюшкин радостный голос:
– Идут, идут!
Выбегаем на улицу веселой толпой. Артисты идут пешком, а сзади тащится груженый воз. На возу «пулеметы», «автоматы», «пушки» и еще какие-то большие ящики. Интересно, а что в них?
Провожаем артистов за кулисы, переносим туда непонятные ящики и «оружие». Каждому хочется потрогать все это, толкаемся, шумим. Потом бежим в зал занимать свои законные места – на полу у сцены.
Клуб битком набит. Вся деревня собралась, пришли даже самые старенькие бабушки – всем хочется посмотреть спектакль о войне.
Костя дает третий звонок, и занавес раздвигается. На лесной поляне солдаты. Ну, конечно, наши, мы их по форме узнали. Недавно с фронта вернулся дед Гаврила, без ноги. Форма на нем точь-в-точь такая же.
Сегодня дед Гаврила пришел в клуб раньше всех. Занял место в первом ряду в уголке, тут же и костыли поставил.
А на сцене начался бой. Трещат автоматы, пулеметы, появились и немцы, у них форма другая, но мы их все равно распознали бы – такие они страшные и противные.
Как же так! Наши отступают, а немцы им вдогонку стреляют из автоматов, и огонь из стволов вылетает, как взаправду. Я даже расстроился, отвернулся. Смотрю в зал и вижу: тетя Анна, Илюшкина мать, вскочила с места– и к сцене.
– Изверги! — кричит немцам и кулаками потрясает. – Моих сыновей погубили!
Все замерли, а на сцене в это время наши солдаты из леса выскочили на немцев с пулеметом. Попадали фашисты все, до единого. А наши солдаты спрыгнули со сцены и тетю Анну под руки на свое место отвели и крепко расцеловали.
…В школе на другой день мы решили сами поставить спектакль.
– А пьесу где возьмем? – забеспокоился Лешка.
– У Кости, у него знаешь сколько книг!
– И о войне у него тоже есть?
– Есть, есть, сам видел! – вру я.
– Только я немцем не буду, – заявляет вдруг Лешка.
– Это почему же?
Лешка тут же находится:
– А если чья-нибудь мать меня побьет? Помнишь, как тетя Анна набросилась на артистов.
Кто-то фыркнул, но я сказал:
– Ничего смешного. Братья Илюшки погибли, понимать надо.
Илюшка поворачивается и уходит во двор. Я за ним. Мне хочется сказать ему что-то, утешить и от него тоже услышать слова утешения – я всегда помню папу.
После уроков мчимся к Косте.
– Мы тоже хотим в клубе пьесы играть! – выпаливаю я. – Чем мы хуже артистов! Как ты думаешь, получится у нас?
– Конечно, получится! – смеется Костя. – Молодцы, додумались. Только вот в клубе холодно.
– Мы дров из лесу привезем.
– А печка? С фермы больше не дадут. Там ягнята. И лес рубить дед Яндуш не разрешает, и так уж кругом все вырубили.
Задумываемся, но не надолго.
– А что, разве в холодном клубе играть нельзя? Народу будет много – вот и согреемся. Солдаты на фронте сутками в окопах лежат, и мы будем, как солдаты. Правда, Костя?
Костя хлопает меня по плечу.
– Дело говоришь, Ванек. Репетировать будем здесь, в сельсовете, а выступать в клубе. Вот и не замерзнем.
– Кость! А какую пьесу ты нам посоветуешь? – спрашивает Лешка.
– Сейчас и решим. Вон книг целый шкаф, что-нибудь да выберем!
…Теперь мы с Илюшкой не ходим на посиделки. Все вечера у нас заняты – репетируем пьесу о войне, только о гражданской. А через две недели у клуба висит большое объявление. Мы выступаем. Опять мы моем, чистим и убираем сцену, только артистов не ждем, артисты – мы сами.
Я чуть-чуть приоткрываю занавес – народу полно. Все хотят посмотреть на нас. А вдруг провалимся? Сердце покатилось в пятки от страха.
…Наш спектакль понравился.
11
После уроков идем с Василием Архиповичем в лес. Солнце припекает уже по-летнему, кое-где пробивается травка, но в лесу еще сыро, лужи не высохли, в них холодная и прозрачная вода, насквозь все видно.
– Ребята! Бекас! – кричу я и показываю на огромную лужу, там, как в озере, плещется бекас. – Как быстро плавает! Интересно, сколько километров в час дает, а?
Лешка заявляет решительно:
– Десять.
– Что ты! – не соглашаюсь я. – Тридцать, не меньше, а может, и больше. Лужа-то в ширину метров пять, а видели, как он ее переплыл!
– Вот бы лодку такую! – мечтательно говорит Илюшка.
– После войны будут, – заявляет Лешка, – и лодки, и машины, и велосипеды.
– Ох, на велосипеде бы прокатиться! И приему их не продают?
– Ты что, маленький? Война же – все заводы оружие делают, танки, самолеты, а ты велосипед захотел. Вот кончится война…
– Я читал, что птицы помогли построить самолет, – говорит Илюшка.
– Ну, я об этом давно знаю, а вот на «катюшу» поглядеть бы хоть разок! – Лешка вздыхает мечтательно. Ишь, чего захотел! Я сам бы не отказался. Федя писал мне о «катюше». Немцы уж очень ее боятся.
Вытаскиваю из кармана последнее письмо брата – мятое-перемятое, читаю вслух ребятам. Так уж повелось – все письма с фронта друг другу перечитываем.
– Почему же он не пишет, какая она, «катюша»? – недовольно ворчит Лешка.
Я объясняю:
– Военная тайна.
Откровенно говоря, я просил Федю в письме рассказать о «катюше», но он не ответил. Я даже рассердился на него – скрывает от младшего брата. Не доверяет мне, как будто не знает, что я умею молчать. Не рассказал ведь я никому про пистолет, даже маме. До сих пор обидно. Но я об этом ничего не говорю товарищам, а просто заявляю:
– После школы поступлю в военное училище. Тогда и я никому ничего не скажу.
– И я с тобой, Ванек! – говорит Лешка, мой верный друг.
К нам подходит Василий Архипович:
– Ребята, принимайтесь за дело.
Лечить деревья – вот зачем мы пришли в лес.
В стороне, в дубраве, стоят безногий дед Гаврила и лесник Яндуш, вокруг них высокие пни. Это срубленные деревья, те, что зимой рубили на дрова.
Мы спешим в дубраву. В душе мы побаиваемся лесника. Обычно, завидев нас, деревенских мальчишек, он машет руками и кричит строго: «Опять явились! Ну-ка марш из леса!» На этот раз на его суровом, темном лице появляется даже слабая улыбка. Старики здороваются за руку с учителем. Яндуш говорит:
– Высокие пни очистим от мусора, глядишь, и побеги пойдут, а открытые места засадим дубками. Это что же вас так мало? Работы – край непочатый – все не осилите!
– Старшие подойдут попозже, не волнуйся, Яндуш, народу придет много, – успокаивает лесника Василий Архипович. – Погубили лес – надо искупать свою вину. Вон какие порубки кругом – одни пни…
– Вот, вот и я говорю, что с лесом сделали? – вмешался дед Гаврила. – Искалечили… Будем теперь раны лечить, что скажете, пионеры?
Мы загалдели:
– Всегда готовы, дедушка Гаврила!
– Ну, и хорошо, а пока давайте-ка залатаем пни.
Ведра с месивом из чернозема стоят тут же – это дело рук Яндуша.
Пни обливаются соком, как слезами. Были бы деревья – сок пошел бы по стволу, по сучкам и веткам, а теперь ему некуда течь – деревья срублены…\
Я подхожу к маленькому березовому пеньку, и вдруг мне становится не по себе – кажется, я его и срубил. Сок течет ручьем. Замазываю пенек землей. Земля на глазах темнеет, а сок проходит сквозь нее и, оставляя грязные темные разводы, стекает по белому пню вниз.
– Эту березку уже не вылечишь, – говорит лесник. – Придется освободить место для саженца.
Я вздрагиваю, как от удара. Не могу глаз поднять на лесника. Знал бы он, кто убил березку! Как жаль её! Кто думал, что так получится? И зачем я ее срубил? Уж лучше бы ржаной соломой печь протопили. Правда, от нее только пепел — печка не согревается, даже картошку не сваришь, да и не один я – стараюсь успокоить себя, все рубили деревья. Война, проклятая война – вот кто повинен во всем.
Рядом, слышу, ворчит дед Гаврила, как будто мои мысли прочитал:
– Что деревья, всю жизнь изранила война. И дети вон какие хилые да слабые, совсем не растут. В холоде да голоде который уже год!
– Ванек! – кричит Илюшка. – Что ты все с пнем возишься! Айда деревья сажать!
Я бегу к ребятам. Вот и кордон Яндуша. Открыть калитку не решаемся – там злой пес на цепи. Бежим дальше к питомнику. Там уже старшеклассники и взрослые – все хотят помочь лесу.
Саженцы совсем небольшие – акация, дуб, клен, березы. Дубовые почему-то самые маленькие.
Взрослые осторожно выкапывают их и укладывают в корзины, а мы таскаем корзины на Волчью поляну.
Волчью поляну накануне вдоль и поперек распахали сохой. Там, где борозды пересекаются, роем ямки. Роем лопатами и руками.
– Вон дядя Гаврила идет, – говорит Илюшка, всматриваясь в высокую нескладную фигуру на костылях. Я поднимаю голову. По тропинке ковыляет дед Гаврила. Остановился в двух шагах, оперся на костыль одной рукой, стоит и раскуривает свою любимую трубочку.
– Смотри, – шепчу Илюшке, – дед Гаврила сам как порубленное дерево. Жаль его.
Илюшка молча кивает. Обычно веселое лицо его делается печальным, и он становится похож на маленького старичка.
Дед Гаврила показывает нам, как сажать деревья. Спрашиваю его:
– А можно я березку посажу?
– Нельзя, Ванек. В дубраве берез не сажают. Березка быстро растет, закроет дубки от солнца.
Тихо говорю Илюшке:
– Эту березку я срубил.
– Ну и что? – удивляется Илюшка. – Я тоже порубил здесь зимой. По-твоему, лучше в холоде сидеть? — А мне их очень жалко. Видишь, как пеньки плачут?
Илюшка засмеялся:
– Разве это слезы? Березовый сок! Ну, что ты расстроился зря Ванек? Не ты один!
– Ничего смешного! Понимаешь, я ее срубил – и теперь должен посадить другую.
– А где ты хочешь посадить?
– На опушке. Здесь нельзя – березка дубки от солнца заслонит.
Илюшка говорит:
– Давай вместе сажать! Я ведь тоже перед березами виноват. Только сначала выполним задание Яндуша.
Когда солнышко стало садиться, все заторопились домой. Мы с Илюшкой побежали на опушку и высадили пять березовых саженцев. Место выбрали высокое, светлое – березкам понравится.
Илюшка беспокоится – не сломал бы кто, ветер не погнул бы.
– Давай каждый день приходить – навещать по очереди.
Так и договорились.
На обратном пути встретили Яндуша. Лесник нес корзину с саженцами.
– Вот, посадите возле школы, – сказал он нам.
С корзиной бежим в деревню. На душе радостно, легко. По лесной дорожке едет на телеге дед Гаврила.
– Дедушка! Посади! – кричит Илюшка. Взбираемся на телегу и катим дальше. Мы с Илюшкой затянули песню. Дед Гаврила подпевает хриплым баском.
На горке останавливаемся. Горка крутая, тропка скользкая, не просохла после зимы.
Дед Гаврила попридержал лошадь перед спуском, удивился:
– Что это у школы народ собрался?
– И песни поют, – недоумеваем мы.
Деревня с горки хорошо видна.
Смотрим, все бегут, торопятся к школе. Что же это такое? Прыгаем с телеги и во весь дух мчимся домой. Навстречу Лешка.
– Ура! Война кончилась! – кричит он еще издали.
– Ура! – вопим мы. – Ура! Кончилась! – С разбегу налетаем на Лешку и уже втроем врываемся в деревню.
Кто-то обнимает нас, целует, чьи-то руки прижимают к груди. Вижу затуманенные слезами глаза деревенских женщин… Дождались…
У школы – столпотворение. Учителя выстраивают нас в колонну. В руках у нас саженцы – вместо цветов. Идем по деревне, и по дороге к нам присоединяются мамы, братишки, сестренки, бабушки, дедушки. Идем в клуб на митинг.
Кончилась война!