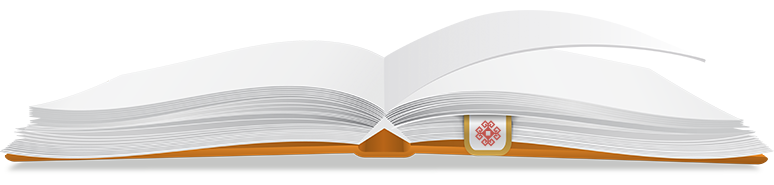Детство

СОДЕРЖАНИЕ
ТАК, ГОВОРЯТ, Я РОДИЛАСЬ
ОКРЕСТИЛИ...
ДЕНЬ, С КОТОРОГО Я ПОМНЮ СЕБЯ
МОИ НЕСЧАСТЬЯ
ТАК, ГОВОРЯТ, Я РОДИЛАСЬ
Жена и двое ребятишек Метри спят на полу. Сам он примостился на нарах прямо у двери, укрывшись старым сохманом. Светает. Сквозь выходящее на улицу оконце пробился розовый лучик утренней зари и осветил его худощавое, с острой рыжей бороденкой лицо. Во дворе пропел петух. Хозяин, будто и глаз не смыкал, проворно поднялся и, как был в белой холщовой, рубахе и крашеных домотканых шароварах, так и поспешил во двор узнать, какая нынче погода.
День обещал быть погожим. Да пора бы уж и разведриться – четыре дня кряду дул порывистый ветер, перемежаясь проливным дождем. Голубое небо кажется бездонным, на нем кое-где мерцают звезды. Заря разгорается все ярче и ярче.
Метри обрадовался хорошему утру. Можно будет дожать оставшуюся полоску овса, только выехать надо пораньше – не дай бог после обеда опять разненастится. С этими мыслями он подошел к амбару, снял с гвоздя онучи и лапти, быстро обулся. Зачерпнув ковш воды, наскоро ополоснул лицо, вернулся в сени. Потом пригладил пятернёй уже кое-где поседевшие волосы, надел на голову свалянный из грязновато-серой шерсти колпак.
– Праски, буди детей, в поле пора, – открыв дверь в избу, сказал он жене – Яшку разогрей, а я пока за лошадью схожу. На обед огурцов соленых взять не забудь.
– Ладно, ступай.
Сильно хлопнув дверью – пусть ребятишки скорее просыпаются, – Метри резво сбежал по ступенькам.
Когда солнце полностью выкатилось на небо, Метри, усадив в телегу жену, двоих детей – Ивана и Альдик, выехал со двора.
Дорога тянулась по яровому полю. После многодневного дождя она вся разбухла, и из-под колес с чавканьем и свистом разлеталась во все стороны жидкая грязь.
Овес-то, поди, мокрый весь, – оказала Праски.
Ничего, пока доедем – провянет,— подергивая вожжи, успокоил жену Метри.
Двенадцатилетний Иван и семилетняя Альдик дружно, как бельчата, жевали стручковый горох, беззаботно поглядывая по сторонам блестящими коричневыми глазенками, и договаривались, что как только кончат жать овес, сразу побегут в лес за орехами.
Зато жена Метри сидела задумчивая и грустная, скрестив руки на большом животе, и думала, кого же на сей раз ниспошлет ей пюлех: сына или дочь.
– Но-о-о! Пошла, пошла! – понукал лошадь хозяин, то и дело посматривая на жену и думая о том же по-своему: «Родится сын – землицы бы прибавилось, сена-соломы чуть побольше бы стало. И телочку можно купить. Вырастет, глядишь, коровенка будет справная... Да, сына бы надо, сына... Уж скорей бы она разрешилась...»
Лошадь между тем уже свернула с дороги на знакомый загон шириною в сажень-другую. Да, урожай на нем доставляет мало радости – низенький, редкий овес местами не взошел и вовсе.
Все семейство принялось за работу. Отец с матерью встали по краям загона, дети – посередине. Маленькая Альдик старается не отстать от брата: он сноп свяжет – и у нее готов. А тот в свою очередь тянется за матерью. Узенькая полоска овса тает на глазах.
Ближе к обеду Праски почувствовала себя плохо. Подойдя к телеге, расстелила наземь сохман, прилегла. Метри, заметил это, поспешил к ней.
– Что, Праски, худо тебе? – с испугом и жалостью глядя на жену, спросил Метри.
Изменившаяся с лица, с расширенными от боли глазами, жена ничего не ответила мужу, только сквозь сжатые зубы вырывался стон.
– Эх, с утра не надо было тебе из дому трогаться, – укоряя себя и не зная, что делать, говорил Метри.
– Да с утра ничего не было... Думала, поработаю нынче день...
Она с трудом поднялась и, пригнувшись, пошла за скирд.
– Может, лошадь запрячь? – крикнул вслед жене Метри. Праски ничего не ответила.
Метри поспешил к лошади, что паслась н.а сжатом загоне, быстро привел ее и стал запрягать. Дети тоже побросали серпы и тревожно поглядывали в сторону скирда, где скрылась мать. Метри бросил на телегу пять-шесть снопов, распустил перевясла, чтобы было мягче.
– Ну, готово, иди, Праски, садись! – позвал он, заворачивая лошадь к скирду. В эту минуту раздался звонкий плач ребенка. Бросив лошадь, Метри кинулся за скирд.
– К-кого бог дал? – заикаясь от волнения, выдохнул он.
– Дочь, – послышался недовольный и виноватый голос жены. Лицо Метри померкло, будто на него свалилось страшное горе.
А на влажном жнивье дрыгал хиленькими ножонками маленький, точно колодка для лаптя, живой комочек. Мать, склонившись над ним, перевязывала пуповину своим поясом. Огрубевшие от работы руки дрожали, а из глаз прямо на синенькое тельце дочери скатывались крупные, как горошины, слезы.
– Не плачь, – успокаивал жену Метри, с горечью глядя на обеих. – Раз уж не суждено от бога, чего ж тут слезы лить. Эх, жизнь-горемыка...
Матъ, обернув новорожденную фартуком, с трудом поднялась с земли и тихо побрела к телеге. Метри укрыл жену сохманом, усадил на повозку. Лошадь, уставшая от ожидания, резво тронулась с места, лишь только хозяин взялся за вожжи, а выйдя на ровную дорогу, припустила рысцой.
Метри ссадил жену и дочь у двора и поспешил к дому тестя. Сообщив о прибавлении семейства, без лишних слов развернул лошадь и погнал в поле—до вечера надо было успеть дожать овес и свезти его в скирд.
Праски же, положив новорожденную на лавку в переднем углу, принялась за привычные домашние хлопоты: развела огонь и подвесила котел с водой – выкупать девочку, принесла из амбара старые, чисто выстиранные белые обноски – для пеленок, занесла корыто. Однако почувствовав, что вконец обессилела, прилегла возле ребенка.
В дверь неслышно вошла пожилая женщина, одетая в вышитое белое платье и повязанная сурбаном, как чалмой, – мать Праски. В руках она держала деревянную чашку, прикрытую капустным листом. Мягко ступая обутыми в онучи и лапти ногами, она прошла вперед, поставила чашку на стол. Осунувшееся, лицо Праски оживилось.
– Анне, вот хорошо, что пришла... Места я себе не нахожу, анне...
Старушка непонимающе посмотрела на дочь добродушными желтыми глазами.
– Отчего же, дочка, места-то не находишь?
– Девчонку ведь я родила, анне...
– И-и, стоит из-за этого убиваться!
– Как же не стоит? Ведь нас, баб-то, нахлебниками зовут.
– Ну так что ж. Бусинка дырявая – и та зря на полу не валяется, говорят старики. А девка и подавно найдет свое место, судьбу свою. Не горюй, ляг, отдохни.
Праски, несколько успокоившись, прилегла, а бабушка начала хлопотать вокруг внучки, готовить ее к первому купанью.
– Ах ты какая: тощенькая, а голосистая! Вон как завизжала, не успела к воде поднести. На дедушку похожа. Нос-то не то, что у брата с сестренкой, не прямой. И лицо пошире... – приговаривала бабушка, умело поворачивая и поливая со всех сторон теплой водой крошечное тельце.
– Да, она не такая будет славная, как Иван и Альдик, – сокрушенно проговорила Праски.
– Не хай прежде времени. Вырастет – свое возьмет, – возразила бабушка. – Гляди, ручонки-то как крепко держат, жилистая, жить будет. Ишь, ты, синичка, а глаза-то, глаза-то, точь-в-точь бусинки...
Стараясь успокоить дочь, старушка без умолку щебетала над внучкой, а в душе сама сокрушалась не меньше ее, жалея заранее только что появившуюся на свет бедную душу. «Бедняжка ты моя, на беду, на горе уродилась. Бабий век – сорок бед, говорят. Дай, господи, тебе здоровья да терпенья, чтоб все беды перенесть, все насмешки пережить...» – думала про себя старушка и опасливо поглядывала на дочь, будто та могла догадаться об ее мыслях.
– Ну, готово! – радостно, довольная делом своих рук, сказала бабушка .и положила рядом с матерью туго спеленатую чистой холстинкой дочурку. – А я пойду зыбку занесу.
Праски кормила дочь и благодарно глядела на мать, как та .ловко, несмотря на возраст, управлялась с зыбкой: протерла ее влажной тряпкой, застелила чистой соломой, покрыла сшитым из лоскутов покрывальцем. Потом просунула шест сквозь кольцо на потолке и подвесила зыбку.
– А теперь пора и на место, – подошла она к сонной внучке, бережно отняла от материнской груди и, уложив ее на подушку, приподняла на вытянутых руках и трижды качнула в сторону печки, приговаривая: – Домовой, стереги внучку, береги дочку, не пугай сестричку!
После этого заклинания положила девочку в зыбку. Однако на этом старанья бабушки оградить внучку от всех бед не кончились – она взяла с полки старый нож без ручки и трижды обнесла его вокруг зыбки.
– Железный забор горожу, злу дорогу прегражу! Иди прочь от ребенка, злыдень, из дому нашего иди прочь!
И, чтобы навсегда отрезать злу пути к внучке, подвесила нож к зыбке – пусть все недуги боятся железного духа.
Праски внимательно наблюдала за хлопотами матери, хотя и мало верила, что ее старания принесут дочке счастливую долю. А бабушка, видимо, вошла во вкус своих священнодействий и решила попробовать все, что было на ее памяти. Вот она вышла в сени и вернулась с клубком черной шерсти. Подошла к зыбке, распеленала внучку и перевязала ее запястья обеих рук и щиколотки ног черными нитками. Это тоже должно было избавить ребенка от злого духа, который мог сделать его хилым, болезненным, худосочным.
– Старые люди так делали, Праски, вот и я, как сумела, сделала, – облегченно вздохнув, села она рядом с дочерью. – В баню приходи, отец еще давеча вытопил, как только керю сказал, что ты разрешилась.
– Приду, анне.
– Мед ешь, дочка, – сказала старуха, кивнув на ковш, что стоял на столе. – Отец постарался, пускай, говорит, теплого меду поест. Он для здоровья больно хорош.
– Ладно, анне, потом с хлебом поем.
– Хлеб, картошка, огурцы... Вот и вся еда. Молока-то с такой еды у тебя не будет, дочка. Так, видать, уж проживешь-то на постной яшке.
– Что поделаешь, анне...
– Может, яиц тебе сварить?
– Не надо, мама, тратить. Иванюку вон еще за керосин восемнадцать штук должны.
– Барашка хоть зарежьте тогда, все навар будет.
– Ой, мама, без него нам с податями не расплатиться, продать придется.
– Беда с вами, – горько сказала старуха, с состраданием; глядя на дочь. И морщинистое лицо ее еще больше сморщилось жалости к родному существу. Тяжело вздохнув, она ушла.
ОКРЕСТИЛИ...
В первое же воскресенье бабушка вызвалась окрестить внучку. Чтобы не вводить в лишние расходы дочь, крестной матерью решила стать сама. Завернув внучку в белое покрывальце и прикрыв сверху полой своего сохмана, она отправилась в церковь. С нею вместе пошла и соседка Плаги, она в один день с Праски родила сына.
Когда они подошли к церковной ограде, народ уже выходил из ворот: молебен окончился. В сторонке, у входа, сидели родители, пожелавшие окрестить в этот день своих детей. Низкорослый, толстый, похожий на кочан капусты поп переписывал фамилии и имена родителей. Вот очередь дошла до матери Праски. Едва она назвала имя зятя, как поп уставил на нее свои бесцветные ледяные глаза.
– Митрий Ларионов не почитает святой храм, в церковь не ходит. И жена его не чтит господних правил – на пасху недодала три яйца. У меня все записано.
Старушка беспомощно заозиралась по сторонам.
– Кто там у тебя – сын, дочь? – недовольным голосом спросил поп.
– Дочка, Марией хотим назвать, – поспешно ответила старушка.
Остальные тоже робко заговорили:
– А моего бы Мигулаем назвать...
– Я свою Татюк хотела бы...
– Мне наказывали Иваном...
Поп выждал, пока стихнут голоса, и произнес как приговор:
– Нынче день Симеона, святого столпника, а мать его звали Марфой. Мальчишек всех окрестим Семенами, девчонок – Марфами. Вот так.
– Уж больно не хочется мне свою дочку Марфой называть, – сказала одна из женщин.
– Это почему же? – холодно спросил поп.
– Недоброе это имя. У нас в деревне, сказывают, жил когда-то лихой человек, по фамилии Ракчей. Так у него была дочь Марфа, да такая злая, некрасивая, не приведи господь. А еще одна Марфа у нас в деревне есть, так она, говорят, связалась с конокрадами, водку пила, да так и загинула где-то... Потому и не хочется мне имя это своей дочке давать. Засмеют, да и боязно: а вдруг и она по их дорожке пойдет? Вот Анной бы славно назвать...
– Другого имени на нынешний день нет. Сказал же: сыновья – Семены, дочери – Марфы, – еще тверже произнес поп и скривил губы в самодовольной ухмылке.
Но тут ему в пояс поклонилась другая женщина.
– Батюшка, у меня двойня, оба сына. Неужто обоих Семенами окрестишь? А у меня ведь и старшенького Семеном зовут. Да разве ж можно, чтоб три сына и все три Семена были?
Поп молчал. Женщина продолжала умолять:
– Батюшка, назови одного Григорием, а другого – Петром Христом-богом прошу...
Поп отозвал женщину в сторонку.
– Неси три десятка яиц, будут тогда Петр и Григорий.
– Да нет ведь, батюшка, ни яичка. Всех кур хорек перетаскал, двор-то без крыши...Батюшка, не гневи бога, не крести детей Семенами! – со слезами кинулась попу в ноги женщина. Поп, не глядя на нее, сопел над требником.
Утирая красные воспаленные глаза кончиком сурбана, к попу подошла Плаги.
– Батюшка, сделай милость, запиши моего Леонидом, отец так наказывал.
Поп, оторвавшись от бумаг, удивленно взглянул на Плаги.
– Это где ж ты такое имя выискала?
Плаги, часто-часто моргая, начала объяснять:
– Мой муж Афанасий матросом на пароме служит. С ним там русский один напарником. Так у него сына, сказывает Леонидом зовут. Вот он и хотел, ежели сын родится, Леонидом назвать...
– Ха-ха-ха! – заржал во весь беззубый рот поп. – Чего захотели, киреметники! Да неужто на слепого чувашина, что всю жизнь коптит в курной избе, доброе имя тратить? Семеном окрещу твоего сына! – взревел он, внезапно перестав смеяться.
Плаги в страхе и смятении попятилась назад, затерялась среди людей.
Видя все это, мать Праски уже не решилась вторично заявлять о своем желании назвать внучку Марией.
А поп разошелся вовсю:
– Бога не боитесь, язычники! Не говеете, святую землю поганите своими грешными делами! А туда же – Леонидом окрести!..
И сделал так, как и сказал: всех мальчиков записал Семенами, всех девочек – Марфами. Мать троих Семенов вышла из церкви, обливаясь слезами. Остальные тоже шли подавленные, недовольные именами, отпущенными на долю их детей свирепым служителем бога.
Все это происходило в 1888 году в деревне Большие Куснары.
ДЕНЬ, С КОТОРОГО Я ПОМНЮ СЕБЯ
Ощущение, что я живу на свете, пришло ко мне так: открыла глаза и увидела солнечный свет. Он врывался в избу сквозь оконце, глядевшее на улицу, и заливал золотом пол, печку, нары, на которых лежу я... А в печи потрескивает огонь. И, хотя в .избе было прохладно, мне показалось, что я просто задыхаюсь от жара, исходящего от солнца и огня. Сбросив сохман, попыталась встать и пойти к солнечному оконцу, но тут же без сил упала на нары.
В избе, кажется, никого не было. Но вот послышались шаги, ко мне подошла сестра. Радостно-укоризненно посмотрела она на меня своими большими коричневыми глазами и, заботливо укрыв сохманом, оказала по-взрослому строго:
– Не раздевайся, холодно ведь. Озябнешь – снова захвораешь.
В это время скрипнула дверь, и вперед с полными ведрами воды прошла мать. Сестра побежала за ней, и я услышала:
– Марфа проснулась, мам. Сохман с себя сбросила, я ее снова укрыла.
Мать поспешно подошла ко мне. От ее белого платья, казалось, исходил такой же свет, как от солнца. Я очень обрадовалась, что вижу ее. А когда она потрогала своей холодной ладонью мой лоб, я была на седьмом небе от счастья. Я попыталась встать, но мать уложила меня.
– Полежи еще, полежи, моя бедняжка. Вот выздоровеешь совсем – и посидишь, и во дворе да на улице побегаешь. И что за напасть на тебя такая? Как веретено, бывало, вертелась, а сейчас вон какая вареная стала. Шайтан побрал бы все эти болезни...
С умилением слушая плавную речь матери, я не заметила, как в избу вошел отец. Я увидела его только, когда он склонился над нарами, пристально вглядываясь в мое лицо.
– Поправилась уж, видать, напрасно тетку Угахху позвали, – сказал он матери.
– Да ,нет, не совсем, голова ай-яй горячая. Эх, несчастное дите. – Похлопав меня по спине, мать ушла в чулан.
А мне в самом деле опять стало плохо. Болит голова, и я не знаю, сплю или грежу наяву. Вдруг слышу голос матери:
– Проходи, тетя Угахха, садись вот тут.
«Тетя Угахха?» Я невольно скидываю с себя сохман, пытаясь вскочить и броситься к матери. Но кроме как приподнять голову не хватает сил. Я с ужасом гляжу на сидящую поблизости страшную старуху, на мать, стоящую возле печки с каким-то недовольно-скучным лицом. Становится страшно, и я начинаю плакать. Ко мне подходит мать.
– Не бойся, дочка, не бойся. Тетя Угахха тебя только вылечит, вот увидишь.
Я, чтобы не видеть некрасивую кудлатую старуху, закрываю глаза. Вскоре до меня доносится ее невнятное лопотанье. Приоткрыв один глаз, вижу: старуха взяла в правую руку нитку с привязанной к ней костью, а левой раскачивает ее из стороны в сторону. Ее толстые безобразные губы все время двигаются – она лопочет какие-то заклинания. Не знаю, сколько времени продолжалась эта комедия, но вот знахарка сунула все свои принадлежности за пазуху, многозначительно помолчала и сказала матери:
– Арзюри привязался к ребенку.
– Наверно, он самый, – согласилась мать. – Уж больно ночью она бредит.
– До болезни, не знаешь, где она ходила?
– Да в Ахтин овраг они все бегали с большими ребятишками...
– О-о, в том овраге он неотлучно и живет. Помню, как раз в том овраге лошадь пастуха убила. Вот дух-то его и мучает людей. Подать ему надо, пусть утешится съестным. Давай хлеб да дверь отвори.
Мать вынесла из чулана полкаравая хлеба и подала Угаххе. Распахнула настежь дверь. Сквозь щели в сенной крыше пробивались красные столбики заходящего солнца. Старуха, зажав хлеб за пазухой, застыла перед порогом, пристально вглядываясь подслеповатыми глазами в глубь сеней. Вот она как будто заметила там что-то и стала смотреть еще внимательней. Смотрит, смотрит и поклонится. Под конец она стала на колени, отвесила три земных поклона и встала. Закрыв дверь, подошла к нарам, уселась на оплетенный из лыка табурет и снова залопотала. Я уже не боюсь ее, с любопытством гляжу на все ее проделки. Вот она отломила от краюхи кусок, обнесла его над моей головой и бросила в деревянную чашку, что стоит в моих ногах. Так она раскрошила все полкаравая.
– Как стемнеет, отнесешь в Ахтин овраг, разбросай и не оглядывайся, иди домой. Да, гляди, люди бы не увидели, иначе толку не будет, – сказала напоследок старуха матери, погрозив крючковатым пальцем.
Мать отблагодарила знахарку холстом. Та, все еще бормоча что-то, оскалила длинный желтый зуб в непонятной гримасе, – видать, маловато холстинки-то мать отрезала.
– Тавдабусь, Праски, – все же выдавила из себя старуха. – Дите завтра же побежит, как резвый ягненок.
Угахха сунула холст за пазуху и скрылась. Однако предсказания ее не сбылись: я провалялась в постели почти до самого лета.
МОИ НЕСЧАСТЬЯ
Я уже чуть-чуть выше стола. Мне даже не надо вставать на цыпочки, чтобы увидеть, лежит на нем что или нет. Я целыми днями бегаю по пятам за сестрой или за матерью, пытаюсь делать то же, что и они, но им почему-то не по душе моя помощь. Начну пол подметать, а сестра тут как тут: «Ну, погнала весь мусор в передний угол!» – и отберет у меня веник, спрячет подальше. Очень мне становится обидно.
А однажды я такое натворила, что и сейчас вспомнить боязно. Вижу – на приступке, скамейке возле печки, стоит ведро, рядом – сестра и так пристально смотрит в него, что я прямо сгораю от любопытства: что же там может быть? Только отошла сестра к окошку, я быстро вскарабкалась на скамейку, наклонила ведро к себе. Шакр-р! – загремели о жестяные бока яйца и одно за другим ляп! ляп! пошлепались на пол. Сестра обезумела, увидев, как по полу расползаются бело-желтые круги.
– Что ты наделала, ведьма этакая? Ведь мать теперь убьет тебя! На соль припасли эти яйца, что теперь делать будем? – Чуть не плача, она стала подбирать уцелевшие и треснутые яйца.
Я, едва живая от страха, со слезами бросилась во двор и спряталась в конюшне, зарылась в солому. Сижу в ней, как сурок, и думаю: что же теперь будет мне за разбитые яйца? Много ли, мало ли просидела, слышу – сестра зовет меня. Я еще глубже в солому зарылась. Чувствую, сестра зашла в конюшню. Затаилась и жду. Поглядев во все углы, она ушла. Я .высунула голову из соломы и стала дремать, потом, вероятно, уснула и проспала довольно долго, потому что во дворе уже блеяли овцы, слышен был разговор – говорили сестра с матерью. Я снова зарылась в солому, оставив однако щелочку для глаз. Вдруг дверь конюшни распахнулась, и кто-то впустил лошадь. Та вначале прошла к колоде, в которой для нее готовили месиво, но, не обнаружив еды, направилась к соломе. Вот она уже почти добралась до меня, и тут я взвизгнула от страшной боли – лошадь наступила мне на ногу.
В конюшню вбежал отец.
– Что такое? Лошадь, что ли, пнула тебя? И зачем ты здесь? – подхватил он меня на руки, а лицо у самого пепельно-серое.
Я рассказала, как оказалась здесь и что лошадь отдавила мне ногу. Сама продолжаю всхлипывать уже не столько от боли, сколько от предстоящей расплаты за разбитые яйца.
– Ну, будет хныкать, – успокаивает меня отец, выводя за руку из конюшни, – айда в избу, а то потеряли тебя совсем.
Нога у меня распухла, и я не могу на. нее ступить, прыгаю, как воробей. Мать и сестра стоят во дворе. Я допрыгала до амбара и села.
– Праски, ты уж не бей ее, она и так перепугалась: лошадь ей на ногу наступила, в соломе она спряталась. Пощупай-ка ногу-то, кость не переломилась?
Мать осмотрела мою ногу, помяла ступню, согнула в суставе, потерла.
– Вроде, кость нетронута, только на двух пальцах вон кровь свернулась,—сказала мать и повела меня в дом. Взяв под мышки, усадила за стол, принесла в моей маленькой глиняной чашке яшку. Я хлебнула и тут же отложила ложку. Яшка была несоленая.
– Мам, ты же забыла посолить, – говорю матери.
– Соли-то нет ни щепотки, доченька.
– В лавке у Иванюка бы купила.
– Да вот хотела купить и яиц десяток накопила, только ты ведь сама их разбила. Теперь жди, когда две курицы нанесут еще десяток яиц, а пока придется есть без соли.
И мать тяжело вздохнула. Я же с аппетитом принялась за несоленую яшку.
Мне очень нравилось ходить с матерью в сарай за дровами. Бывало, возьму одно полено, принесу в избу, мать похлопает меня по спине и скажет:
– Молодец, работящая дочка у меня растет.
А мне от этой похвалы еще больше хочется помогать ей. И вот как-то стою и гляжу: мать месит тесто. Муки не хватило, и она, взяв деревянную чашку, пошла к соседям попросить взаймы. Едва за нею захлопнулась дверь, я взобралась на скамейку, где стояла квашонка с тестом, и, запустив руки в тесто, начала месить. Тесто налипло мне на руки, и я, чтобы избавиться от него, стала трясти руками. На пол стали шлепаться целые лепешки, а остатки я вытерла о платье. Когда вернулась с мукой мать, я не только сама вся вымазалась, но и на полу, около печки, на нарах – всюду было тесто. А о платье и говорить нечего: чистого местечка не осталось.
Мать, увидев все это, заохала:
– Ах, тур-тур! Чего ты наделала? Платье-то, платье начто похоже?
А я слезла с табуретки и как ни в чем не бывало поглядываю на дело своих рук.
– Ты зачем к тесту подошла?
– Помочь тебе хотела...
Мать еле заметно улыбнулась, но лицо ее тут же потускнело,
– Сколько теста извела, помощница. Мука-то ведь последняя была. Как теперь дотянем, пока отец с братом вернутся?
На глазах матери появились слезы. Я молча вышла во двор и щепкой стала соскребать тесто со своего платья.
Казалось, не будет конца моим несчастьям, и все они происходили из-за моей наивности. Но, пожалуй, самая страшная из всех моих бед – это то, как я тонула. И если бы не кузнец, не было бы меня в живых.
Я играла на лужайке возле дома. Вдруг вижу, идет моя сестра с подружкой, по всей вероятности, на речку купаться. Я ударилась вслед за ними. Оступившись на пригорке, я со всего размаху упала на землю и поранила палец на ноге. Заревела так громко, что сестра сразу подбежала ко мне. Глотая слезы, спрашиваю ее, куда они собрались, и говорю, что тоже пойду с ними. Сестра молча взяла меня за руку, и мы пошли по берегу Аниша.
Солнце стояло в самом зените, было очень знойно. Вода на реке казалась застывшей, как зеркало, даже глазам больно смотреть. На берегу, под раскидистыми ветлами, резвятся дети, некоторые с криком и смехом барахтаются в воде. Мы проходим мимо кузницы, откуда доносятся методичные удары молота о наковальню. Одетый в красную рубаху и кожаный фартук кузнец-богатырь кует что-то. Недалеко от кузницы, прямо на земле, играет его дочурка. Желтоволосая, в розовом ситцевом платьице, она похожа на красивую бабочку. Мне хочется разглядеть ее вблизи, поиграть с ней, но я не смею ее отца.
Мы идем по тенистой прохладной тропинке. Палец мой болит теперь еще сильнее, и я отстаю от старших. Сестра замечает это и говорит мне:
– Не ходи с нами дальше. Иди вон с Катей поиграй.
Но я упрямо иду за ними, а сама все время оглядываюсь на мелькающую сквозь кусты Катю. «Может, и вправду пойти поиграть с ней, пока отец не видит?» – думаю.
– Ну, тогда оставайся здесь, сейчас нарву тебе цветов, – говорит, подмигивая подружке, сестра. – Мы прогоним собаку, что за тобой гонится, и сейчас же вернемся сюда.
Вскоре они вернулись с целой охапкой цветов.
– Вот, играй, только к воде близко не подходи, водяной поймает,— наказала мне сестра.
Я посадила цветы в мягкий песок, огородила их забором из палочек, проложила между ними дорожки. Но вскоре мне стало скучно, и я, забыв про ушибленный палец, встала. И тут увидела на другом берегу сестру с подружкой. Подбежала к самой воде и, ухватившись руками за прутья, крикнула что есть силы:
– Вы куда-а?
– Сиди-и там же-е! Мы тебе принесем булдрана-а*!— тонким голосом отозвалась сестра.
Мне стало обидно, что они меня обманули, и я горько расплакалась. И тут, взглянув в воду, я увидела прямо перед собой плачущую девочку. От удивления я даже перестала плакать. Смотрю – и девочка закрыла рот, глядит прямо на меня. Я вытерла нос подолом платья – девочка проделала то же самое. Я рассмеялась – она тоже. Вдобавок, на ней такое же белое платье, как и на мне. Даже ссадина на коленке—вчера я взобралась на забор, а потом шлепнулась оттуда – у нее точь-в-точь на том же месте, что и у меня. И ноги даже чуть кривые, и низенькая она, как и я, рыжеватые реденькие волосы чуть спущены на лоб, карие глаза смотрят широко и удивленно.
Долго я простояла, разглядывая в воде самое себя и никак не догадываясь, что это мое отражение. Вдруг за моей спиной послышались шаги. Я оглянулась. По тропинке шел мужчина в черном картузе, в пиджаке из синего сукна и таких же шароварах, в сапогах. Поравнявшись со мной, он взглянул на меня – мне показалось, очень сердито. И ноги мои вдруг поскользнулись, я выпустила ветку, за которую все время держалась, и, дико вскрикнув, скатилась с берега в воду.
...Темно. Кажется, что на меня навалили что-то очень тяжелое, и я не могу шевельнуться. Но вот слышу голоса, вначале слабые, потом — все громче и яснее. Открываю глаза. Вверху лазурное небо, солнце, белые, словно кружевные, облака...
– Глаза открыла, – говорит кто-то.
Надо мной склонился кузнец и смотрит своими ясными ласковыми глазами. Его кумачовая рубаха прилипла к телу, а с вьющихся черных волос мне на лицо капает вода.
– Ну, ну, не закрывай глаза-то, теперь уж будешь жить, – говорит он, растягивая губы в улыбке.
Я приподняла голову, огляделась. Оказывается, лежу на берегу речки, а около меня, кроме кузнеца, стоят его дочка Катя и женщина с мотыгой в руках. Катя смотрит расширенными от страха васильковыми глазами, вот-вот расплачется.
– Как тебя, Гаврила, бог надоумил сюда прибежать?—спрашивает женщина.
– Да не бог, а Катя. Примчалась с плачем и говорит: девочка утонула. Ну, я бегом сюда да в воду, в то место, куда Катя показала. Шарю по дну, голова ребячья попалась. Вытащил. Она уж посинела, не дышит. Я ее вниз головой подержал, из нее и полилась вода. Так и ожила, – неторопливо, уже спокойно рассказывал кузнец.
– А я мотыжу картошку в огороде,—снова заговорила женщина,—вдруг слышу: ребенок страшно закричал. В это время как раз Шешле Ягур проходит. Чей там ребенок кричит, спрашиваю что стряслось? «Да чья-то девчонка, видать, утонула», – отвечает и идет дальше... Эх, и человек ты, думаю. Камень, и тот вроде теплее бывает.
– Да неужто у богача душа за бедных болит? Никто ему не нужен, кроме самого себя! – сверкнул глазами кузнец.
Катя подошла ко мне и, присев на корточки, стала распутывать мои мокрые волосы. В это время и подбежала запыхавшаяся мать.
– Эх, горе ты мое, горюшко! Зачем к воде-то подошла, зачем? Ведь утонула бы, если не добрые люди! И знать бы никто не знал! Ох-хо-хо!.. – запричитала она, поднимая меня с земли оглядывая так, как будто видела впервые. Потом, успокоившись немного, повернулась к кузнецу:
– Всю жизнь будем за тебя богу молиться, Гаврила. Уж не знаю, как тебя благодарить за дочку...
– Брось, Праски, ерунду-то городить! Чего уж там! В беде не помочь человеку – как же иначе?
И кузнец, широко ступая босыми ногами, зашагал к кузнице. Катя вприпрыжку побежала за ним.
Ушла в свой огород и женщина с мотыгой. Мать собрала в пучок мои мокрые волосы, отряхнула с платья налипшие водоросли, взяла за руку, и мы пошли домой. Я уже окончательно пришла в себя и была страшно рада, что жива, что иду рядом с матерью домой. По дороге я поминутно оглядывалась, чтобы еще раз увидеть своего спасителя, кузнеца.
Как мне потом рассказывала мать, было мне в ту роковую пору шесть лет.